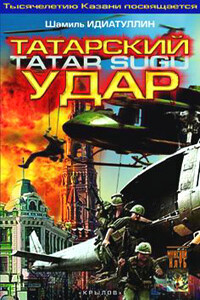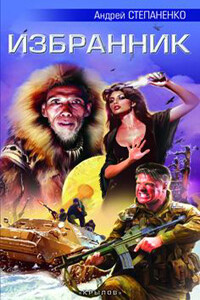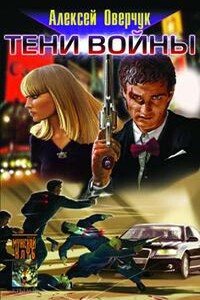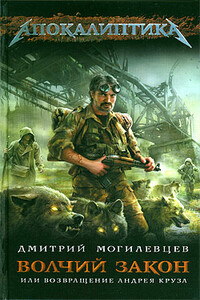Она учила его целоваться, как мальчишку. Он совсем не умел, тяпал губами, будто прихлебывал бульон, а она щекотала его языком, покусывала, касалась его неловкого языка, обманывала, впивалась губами в губы. У него сильно пахло изо рта, но не гнилью, не липкой, выворачивающей желудок вонью разлагающей зубной кости и остатков застрявшего в дуплах мяса, — у него были на диво здоровые, крепкие белые зубы, и запах был звериный, смолистый, здоровый. Они ели мясо вместе и совокуплялись, вцепившись зубами в один и тот же кусок, вгрызаясь, глотая, отдирая, отбирая друг у друга последний клочок и впиваясь губами в губы.
Он учил ее ездить верхом. Подсаживал сам, смеялся, хлопал лошадь по крупу — давай, смелей, не цепляйся так за поводья, вперед, Есуй моя, держи камчу, умеешь? Вот так, хоп, вперед, ха, — смотрите, люди, как она скачет, она родилась в седле! Они хохотали, — да, хоть на охоту. А может, она и стрелять умеет, дайте ей винтовку, пусть попробует, нот, куда женщине со скока, пусть так, с земли — нот, посмотрите, и посаженный на шест сухой конский череп разлетается вдребезги, о, она женщина, достойная самого Завоевателя. Иди ко мне, — она прыгала к нему на руки, и он, смеясь, нес ее в юрту. Она пробовала рубить саблей на скаку, но для сабли нужно плечо, размах, у женщины нет силы в плечах. Камча лучше. Камчой можно выбить глаз, оглушить, выдернуть из рук оружие, выбить из седла. В камче живет сила, помноженная на конский ход, в ней главное — точность.
Они охотились. Скакали по степи, и на руке Сапара сидел огромный старый беркут, впившийся кривыми когтями в тройной кожи перчатку. Вон, шерстистый комок несется вдалеке, стараясь удрать. Куда ты бежишь, жалкая тварь, с глаз твоей смерти уже сняли кожаный колпак, и она набирает высоту, загребая воздух мощными крыльями, летит к тебе сверху, выставив когтистые лезвия. Годовалый волчок успел лишь поднять морду и оскалиться, а его смерть уже у него на спине, бьет когтями, и хрустит переломанный хребет, и слышится визг, и течет из окровавленной пасти, а тренированная смерть ждет, топорща перья, пока всемогущий хозяин даст, подъехав, кусок свежей конины. Винтовка в руках — это власть, власть — и сабля, и нож, и даже сжатый кулак — власть над теми, кто кулак сжать не способен. Но нести на руке живую, крылатую, послушную смерть — это больше. Это настолько же больше, насколько сильнее живой вкус ветра описывающих его слов. Это запах разгоряченных коней, запах свежей, брызнувшей из-под когтей крови, горьковатый аромат терескена, пыль, хрустящие под копытом камни.
Это жизнь, которой хочется жить до последней минуты, без остатка, хочется остаться, врасти во власть и ветер, в бессмертие. Времени тут не было, были скачущие люди, горы, и степь, и ничего невозможного, даже время можно было сбить на лету, и освежевать, и петь у костра, как триста, и пятьсот, и тысячу лет назад. Дребезжали струны, и певец, старый, с сединой в жидкой бороде, пел монотонно, горлом, на одной ноте, то громко, то тихо, и в его голосе стучали копыта, и звенела, вылетая из ножен, сталь. Полузнакомые слова будили память, отзывались в ней, всплывали, — прочитанным ли однажды, или на самом деле понятым?
Лбы их из бронзы,
А морды — долота стальные,
Шило — язык их,
Сабли — их плети,
В пищу довольно росы им,
На ветрах верхом они скачут,
Мясо людское рвут на охоте,
Мясо людское грызут они в сече,
С цепи спустил я их саблям на радость,
Долго на привязи ждали они…
Пенился в чашах каракумыс, шипел на языке, пьянил, певцу подпевали, прихлопывали, хохотали. Если бы спросили сейчас, как ее зовут, и если бы она могла ответить, ответила бы с гордостью — Есуй. Но она молчала, потому что слова стали щетинистыми, колючими, гадкими тварями, их нельзя было пускать в горло, они смердели, они ничего не значили, не были нужны. Они всегда лгали. Все понятное понятно без слов. Она — Есуй, и пусть все видят и поймут это. Прежнее ее «я», жалкое, рабское, носившее мяукающее, приторное имя, сжалось, отступило, робко затаилось. Новое «я» пользовалось умениями тела, доставшимися от старого, насильно им обученного, без удовольствия ими пользовавшегося, умирающего, полусгнившего, слабого. И с презрением отвергло слова, за которыми прежнее «я» прятало свою гниль.