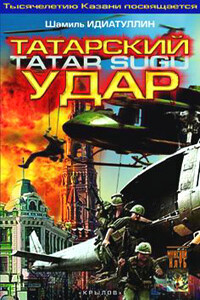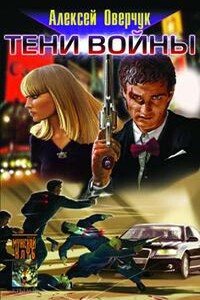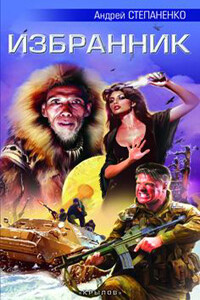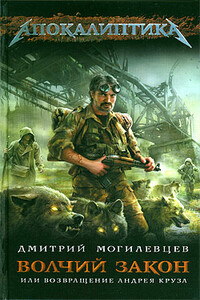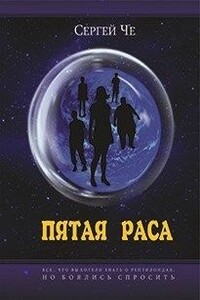И она снова начала писать. Она бросила много лет назад и пообещала себе никогда больше не пытаться. Нет ничего хуже — знать, как должно быть, как будет лучше, совершеннее, живее, — и не мочь перенести знание на лист бумаги или холст, и смотреть на аккуратное, чистенькое, мертвое убожество, не рисунок — чертеж. В сундучке второй жены, который Есуй, подцепив ногой, опрокинула, рассыпав содержимое по юрте, оказались ученические карандаши, и альбомы, и пачка высохших фломастеров. Она, глупышка, рисовала куклы, высунув язык от усердия, и они получались такими, каких рисуют приготовишки — большеголовыми, с нитками-спичками рук и ног, с глазами на полголовы и длиннющими ресницами. Нина-Есуй пришла за кругленьким зеркалом в медной оправе, которое заметила в руках второй жены еще вчера, пришла и спокойно взяла, и повернулась, чтобы уйти, а жена высунула язык вслед и плюнула. Нина-Есуй, заметив, повернулась и отвесила ей звонкую пощечину, и еще одну с другой руки — для равновесия. Та так и села, выпучив от удивления глаза, а Нина-Есуй осыпала ее содержимым ее же сундучка. Она заревела, схватив маленького плюшевого мишку, прижав к себе, будто ребенка. Тогда Нина присела на корточки подле нее, погладила по голове, обняла. Красивая, глупенькая девчонка, красивая, прижмись ко мне и не хнычь, зачем ты хнычешь? Ты красивая, никогда не думала, что киргизки могут быть такие красивые, тонкие, как тростинка, с тяжелой грудью, тонкими чертами. Здешние бабы все толстые, тут любят тучных, с большой грудью, кряжистых, детородных, охватистых, с большущими круглыми задами, а ты такая хрупкая, слабая. Не злись, глупышка, не злись. Нина-Есуй гладила ее, и та вдруг перестала плакать и уткнулась в плечо, шмыгнула носом, а Нина-Есуй пощекотала языком ее ушко, поцеловала в щеку. Вытерла губами остатки слез с ее глаз. Ее соски были совсем маленькие и розовые на такой тяжелой упругой груди, она пыталась отстраниться, закрыться — молча, только смешно сопела, ну куда ты, глупышка, я ведь сильнее, не прячь, дай я поймаю на язык твои розовые горошинки. У нее оказался почти голенький лобок.
Нина знала, что татарки бреют, но он не был бритый, на нем росло всего несколько волосков, как у мальчишки на подбородке несколько первых длинных щетинок. Не заслоняйся, закрой глаза, давай я их тебе закрою языком, какие у тебя вкусные слезы, ох, если б еще и мылась хоть когда-нибудь, я обязательно приучу тебя мыться, глупышка, женское лоно должно пахнуть свежо и вкусно, глупая, попробуй, попробуй…
Потом Режабибби сидела, сжавшись в комок, и плакала, слезы текли в два ручья, и Нина, не зная, как ее теперь успокоить, неожиданно для самой себя взяла и нарисовала ей куклу — похожую на Режабибби, худенькую, полногрудую, симпатичную, и начала рисовать для нее платья, и сама увлеклась, а опомнившись, увидела, что Режабибби смотрит ей через плечо, и глаза у нее горят от восторга. Нина нарисовала ей столько платьев, столько та захотела, нарисовала дюжину кукол, толстых и стройных, похожих на русских женщин и похожих на киргизок, нарисовала страшную куклу, похожую на старшую жену, нарисовав ей груди до колен, и Режабибби высунула язык, дразня уродливую куклу, и засмеялась. А еще Нина написала саму Режабибби, набросала небрежно, как куклу: простодушная улыбка, шмыгающий нос, высокие скулы, тонкая шейка, завившаяся за ухо прядка волос. Написав, посмотрела, глянула в лицо Режабибби, чтобы сравнить, — и сперва не поверила сама. Когда-то однокашник сравнил ее с евнухом, знающим, как должно быть, видевшим сотни раз, умеющим оценить качество исполнения, но самому неспособным. Ее работы всегда оставались чертежами, иллюстрациями к правилам правильного рисования. А сейчас портрет получился небрежным, размытым, растяпистым, грязным, — но живым. Нина, взяв пальцами за подбородок, — Режабибби вздрогнула, — повернула ее голову к свету, уселась и торопливо набросала еще портрет, и еще. И, глядя на них, вдруг заплакала. Режабибби, всегда готовая разреветься, шмыгнула носом и за компанию залилась в два ручья. Глупышка, подползла на четвереньках, робко дотронулась до руки, погладила.