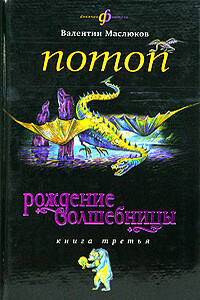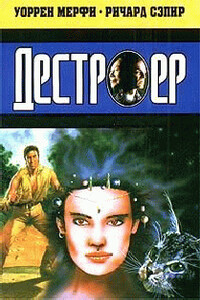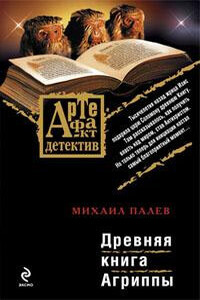— Не надо лекций! — оборвал его Генрих.
— Ничего, потерпи. Укол и всё. Это не больно. Так вот, смертность — тончайший яд, разлитый в искусстве. Нечто такое, что определяет существо восприятия. Однако яд. Хотя и в ничтожной примеси. Катализатор. И когда, Геня, к чему я веду, — когда, Геня, творцу не хватает крупицы яда, без которой нет вот этой пронзительности, этого щемящего зова… Не хватает крупицы, чтобы одухотворить творение. Материя искусства рвется, художник не может с ней совладать, материя проскальзывает между пальцев… Тогда, Геня, он начинает накладывать яд ложками.
— Поговорим о природе творчества?
— Не-е, Геня, нет… Об убийстве Колмогорова, Геня.
Генрих хохотнул. Так как-то: ни коротко, ни долго — безвкусно. Словно ремарку обозначил: «смеется».
— Дело в том, Геня, что я звонил в больницу. Колмогоров умер от передозировки атенолола.
— Вот как? И что из этого следует?
— Совесть, Геня, химера, пока о преступлении никто не знает.
Вадим не торопился, он мог теперь позволить себе отвлеченные размышления, не опасаясь потерять собеседника, дыхание которого различал и за тысячи километров.
— Совесть, Геня, химера, пока преступление не названо преступлением. Если не формально, то твоим внутренним счетом. Как это бывает у совестливых людей. Ничего еще не сделал, а уж знает, что сделает, и мучается. На дурное приготовился и наперед знает, что сам себя покалечит. Покалечил — и сейчас же, не переведя дух, мучаться. Потому что высоко себя ставит. С высоты падать страшно. И больно. Так, Геня, у совестливых людей. А у большинства, Геня, совесть — это опасение, что поймают и высекут.
— А ты циник, Вадя.
Вадим смолк.
Добравшись рукой до деревянной подставки лампы, Генрих забыл на выключателе палец. И все поджимал, поджимал, не замечая того, кнопку — щелчок — потухло.
— Из этого следует… Ты убил Колмогорова, — раздалось в темноте.
— Да? — отозвался Генрих. — Любопытная версия.
Слова ничего не значили. Значила интонация. Генрих почти не переменил тона.
— Хочешь узнать как? — сказал Вадим.
— Прилежный ученик — слушаю.
Но Вадим опять отвлекся. Самое чудовищное, невозможное прозвучало, и Вадим испытывал от этого такое облегчение, что в словах его проскользнуло нечто похожее на дружеское подначивание:
— Кстати, тебя не поразило, откуда Куцерь знает, как оно все было?
Выключатель щелкнул — вспыхнуло. Генрих смотрел сквозь красную газовую ткань на лампу. И не отвечал.
— Как убедительно он это представил, а?.. Влекущее чувство на краю бездны. У последней черты. Можешь ступить, но тянешь. И вот это вот — тянешь, самая сладость. Когда последняя малость решает и все в твоей власти. Так женщина играет в любовь. И поцелуи, и то и это, и руками лазить — и вдруг — тпру! стоп!.. К слову сказать, имел я как-то раз душеспасительную беседу с одной такой юной исследовательницей. Девица, девственница — со слов заявительницы, конечно. Личико ангельское, щечки румянцем светятся. И вот, прикинь, это трогательное создание ночью на вокзале. Неизвестно зачем. Слоняется, ей идти некуда…
— Очень! — отрубил Генрих и продолжал с паузами: — Это. Интересно. Слушаю тебя предельно внимательно.
— Извини, отвлекся. Значит, как это было. Убийца поднялся в кабинет Колмогорова… Нет, надо издалека начать. Художественная натура. Живая игра ума. Играл человек и заигрался. Увлеченный собственным остроумием обдумал убийство. Незаурядное по своей простоте и изяществу. Убить человека его же лекарством. Нарушение меры. Это убийственно в искусстве, но и просто для убийства годится. Он все продумал. Обжился с мыслью. И вдруг достало — сейчас или никогда! И все повернулось: вот оно! Случай! И оказалось вдруг, что ничего не готово. Одно мечтание. О чем говорить — убийца не удосужился купить в аптеке атенолол! А дело в том… он сам до последнего не понимал, что убьет.
— Как это? — бросил скептически Генрих.
— А вот не знаю как… За атенололом полез в кабинет Колмогорова! Чего уж глупее! Но ему важно было себя испытать — на острие. На грани. И, я думаю даже, в глубине души он ожидал, что все сорвется прежде последнего, непоправимого шага. Надо было судьбу испытать. Кинуть жребий. Орел или решка? В коридоре ни души. Орел! Ключ на месте. Выпало! Второй ключ на месте. Судьба! Он заходит в кабинет — в шкафчике у Колмогорова полно атенолола. Что дальше? Атенолол ведь практически не растворим, и убийца это знает. А дальше — простой, идеально простой, до гениальности ход. Даже я, доктор, не сразу сообразил. Если бы убийца сам потом не навел меня на мысль, сам себя не выдал…