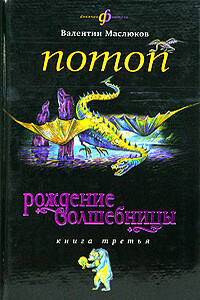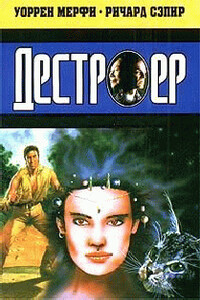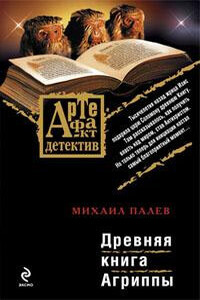— Вадим! — повторила Аня с дрожью. — Ты хотел поговорить с Генрихом. Хотел?
Генрих повел взгляд на свою руку, стиснувшую крестовину меча… Расслабился… И опустил оружие с презрительным равнодушием на лице.
Аня протягивала ему телефон. Он отвернулся, неспешно вставил меч в крепление на стене и только затем занялся телефоном.
— Почему зеленый, Ань? Почему он зеленый? — бился голос Вадима.
— Цвет не имеет значения, Вадик, — ответил Генрих. — Никакого. Абсолютно.
Аня встала, на глазах у Генриха стащила со стола еще пару некрологов и поспешила к розетке вынуть второй, поставленный на зарядку мобильник.
— Общее ощущение? — отозвался Генрих, провожая Аню взглядом. — Пустота. И все чужое.
Выдерживая сколько хватало сил спокойный шаг, Аня направилась к выходу. Но сил хватило лишь до секунды, когда севший было к столу Генрих вскочил. Словно подстегнутая, Аня ринулась к двери — дверь распахнулась ей в лицо.
Появилась закутанная в грубую хламиду зеленая женщина.
Казалось, кто-то продезинфицировал Соколову зеленкой с ног до головы и выставил из палаты, не дав даже одеться: журналистка закуталась в брезент, едва достававший ей до бедер. Больше, кроме этого мешка, на ней ничего не было. Тонкие кривые ноги в зеленке, зеленка на лице, мокрые волосы из-под душа, неравномерно окрашенные в тот же бледно-зеленый цвет.
Встречным взглядом Надя скользнула по балерине, по завалам бумажного хлама на полу и распахнутым шкафам.
— Что, новое занятие нашел? Уже? — со злыми слезами в голосе сказала она Генриху и пнула босой ногой стопку эскизов. — Забыл, зачем отправился?
Без единого слова Генрих достал из шкафа красный свитер и бросил его женщине через завалы. Свитер упал под ноги, она нагнулась поднять, уронила с себя брезент, оказавшись действительно голой и зеленой, и со свитером в руках зашла за мольберт, чтобы одеться. Черные джинсы, которые Генрих бросил поэнергичней, повисли на верхнем ребре картины. Из-под штанины неживым взглядом глядела «зеленая женщина». Красное пятно губ. Надя резко дернула джинсы, шатнув при этом мольберт, надела все, что нашел для нее Генрих, и вышла. Из-под свободного свитера свисал конец ремня, закатанные штанины волочились по полу.
Она глянула Генриху в глаза:
— Мерзавец!
Ждать больше было нечего — три шага к двери, Аня выскочила вон. Вслед за ней бросилась Надя.
Они добежали уже до лестницы, сыпанули вниз по ступенькам, когда сзади, из коридора достал их звенящий выкрик:
— Бабьё! Куриные мозги!
Генрих вернулся в мастерскую и захлопнул за собой дверь.
Брошенный на столе телефон продолжал кудахтать и надрываться. Он полетел в забитую бумагой урну.
Там, среди хлама, среди огрызков и окурков, мерзавец не унимался — булькал, утонув в мусоре.
Генрих стоял, обхватив лоб ладонью, словно пытался что вспомнить. Двинулся опять к двери и выглянул в коридор. Пусто и тихо.
Наверное… наверное, следовало вернуться в мастерскую. Простая мысль возвратиться в комнату казалась ему понятной. Он вернулся. Выключил, помешкав, верхний свет и подошел к окну.
Проявились ряды огней, пустынный асфальт улицы. Вблизи под самое окно подступала вспученная, лохматая тьма, в которой угадывались вершины вязов.
В неподвижности ночи было что-то нереальное.
Однако и свет красного абажура — он включил лампу — не приносил перемены. Все то же — неподвижное и бессмысленное.
Некрологи. Большая, черт побери, груда. Откуда столько?
Он попытался разобрать листы, но не мог толком и сосчитать их.
Хрен с ними.
Он прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться.
Замолкшая было урна запищала, захлебываясь.
Пинком он опрокинул урну, подобрал в мусоре закатившегося истерикой мерзавца, потом подвинул кресло и бросился в него полулежа.
— Да, Вадим.
— Ну, я поговорил с Аней — нормально. А то ты меня уже испугал — эта зелень.
— Кончай болтать. У меня мало времени.
— Тогда не знаю… Может, в другой раз?
— Что ты хотел?
— Как сказать… Задумался над твоим афоризмом: бессмертие человека уничтожит религию и искусство.
Генрих молчал. Ничего не дождавшись, Вадим вынужден был продолжать:
— Опровергнуть это соображение по ряду причин невозможно. Но если идти от обратного, то да, не поспоришь: ощущение конечности человеческой жизни пронизывает искусство…