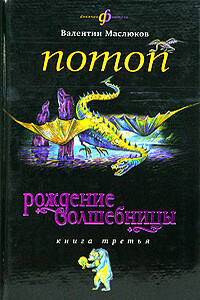— Нет, мы его заставим! Так уже не уйдет! Стул! Давайте! Поставить сюда стул! — в тон общему ожесточению распоряжался Генрих. — Нина! Свет! — обернулся он к Нине Ковель, и она повиновалась, словно это был сам Колмогоров.
Полубегом притащили драное, с облупившейся позолотой бутафорское кресло. Заслуженное седалище поставили посреди сцены под всплеск засиявших прожекторов.
— Сюда! — велел Генрих, глянув вверх.
Кресло подвинули. Однообразно ухмыляясь, Куцерь, уселся. И тоже глянул, щурясь, наверх в многоокий свет софитов, потом уперся руками в колени и подался вперед с намерением не упустить ничего занимательного.
— Связать его! — жестоко сказал Генрих, озираясь.
Парни замешкали.
— Ну, чем-нибудь! Давайте! — подстегнул он.
Ничего, кроме длинного электрического кабеля, под рукой не нашлось. Кабелем, поспешно, путаясь, десятком витков примотали Куцеря к креслу, затянули несколько рыхлых узлов, но все равно еще после этого остались порядочные концы с массивными железными разъемами на них. Концы бросили на пол, они легли маслянистыми черными петлями.
Что-то перевернутое обнаруживало себя во всем этом лихорадочном начинании, и попытка вернуть вещам, событиям, понятиям их естественные основания лишь усиливала разлад. Куцерь хранил высокомерное спокойствие, хотя волосы его, где слежавшиеся, где встрепанные, являли собой зрелище беспримерного раздрая. Спутанный черным кабелем, посаженный на кресло, как на трон, окруженный вынужденными стоять людьми, преступник благосклонно принимал дань общего озлобления. Ореол исключительности и загадки окружал воссевшего посреди сцены преступника. На лбу его сияло клеймо.
— Где, когда, как?! — обличал Генрих. — Как этот сор попал в эту башку? Все галдят: кофе, кофе, кофе! Кофе, поднос, церемониал — и в башке замкнуло. Раз после кофе — значит отравили. Если отравили, то почему не я? Хлопцы, да ведь дурак перед вами!
Страдательный, полный муки жест сопровождал это утверждение: Генрих присел и потряс растопыренными руками — как мужик посреди ярмарки, заголосивший о своей беде. Откуда только взялось у Генриха это слезное и надрывное — шапку оземь! — из каких глубин памяти?
— Все форточки у нас в голове открыты — и хлопают! Хлопающее на сквозняках воображение! И вот дурак этот сам себе гром. Природная стихия! — говорил он западающим в стонущие тона голосом.
А Куцерь, связанный и униженный, демонстрировал ленивый произвол чувств: поднявшиеся в мимолетном удивлении брови, искривленный зевком рот и издевательское внимание, которое он тут же, с извиняющейся гримасой возвращал своему лицу.
— Где?! — говорил Генрих, все больше озлобляясь. — Когда?! В какой момент? На сцене полно народа. Толпа! Алевтина Васильевна не отходила от рояля. — Он кивнул в сторону концертмейстера, которая, сгорбившись, зажав рукой рот, сидела возле инструмента. — У всех на виду? Не надо!
— Зачем он тогда говорит? — серьезно спросила Ира Астапчик.
Генрих остановился лишь на секунду. И в следующее мгновение обрушился на Ирку:
— Я — герой, я — убийца — не важно что! — проговорил он сдавленным, клокочущим голосом. — Я — звезда! Ко мне протискиваются с микрофоном в руках. Я бандит, я шлюха, я последняя сволочь! Выдающаяся. Очень большая сволочь! И я в лучах славы. Все вокруг млеют! Пускают слюни. Все вокруг — стадо!
Генрих замолк, сцепив зубы.
Склонивший голову в знак внимания, Куцерь выпрямился, сколько позволяли путы, и растянул рот:
— Все, что творилось здесь у нас, расскажет честный унитаз, господин художник.
— Можешь не рассказывать, господин унитаз! — мгновенно повернулся Генрих. — Мы не будем тебя допрашивать. Мы тебя испытаем. Знаешь, как с еретиками расправлялись?
Поразительно — впервые тут, кажется, Куцерь дрогнул и не нашелся с ответом. Кто-то другой сказал тихо — на всю сцену:
— Что-то нехорошее будет.
— Мы не оставим тебе шанса, — продолжал Генрих. — Ни одного. Ты сидишь в кресле. Софиты падают, — быстрый жест вверх. — Не шелохнулся — твоя правда. Ты убил Колмогорова. И расплатился за это жизнью. Дернешься спасать шкуру — соврал. Тогда ты жив, но дешевый шут. Макака.