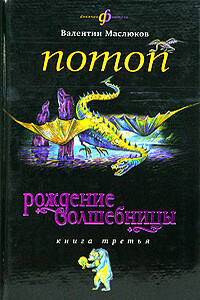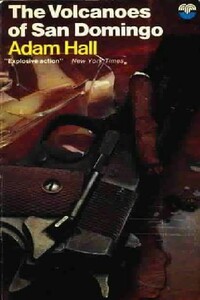— Остывший кофе, что на рояле, в турке, — буднично пояснила Богоявленская из полутьмы кулис. — Я его вылила. А Колмогорову сварила заново. И он при мне это кофе пил. Я не отходила.
Потом она вернулась к онемевшему Куцерю:
— Раскричался — убийца! Сначала разберись, а потом кричи.
Никто не сказал ни слова, когда Вероника собрала на поднос валявшиеся на рояле пачки лекарств, поставила грязную чашку, турку, забрала полотенце и удалилась.
— Уберите ваши железяки! Осточертело! — крикнула Аня вверх, машинисту, который маячил у пульта.
Зависшие без порядка штанкеты и софиты начали один за другим подниматься.
Все еще сжимая кабель, Куцерь двинулся по сцене, подволакивая за собой струящиеся черные плети.
— Не знаю тогда, что вам еще и сказать…
— Может, для разнообразия правду? — резко откликнулась Аня.
Виктор пнул путавшийся в ногах кабель и отбросил конец, гулко стукнувший о пол.
— Все, хлопцы, край! Под горло стало!
И он не нашел ничего лучшего, как бухнуться на колени.
— Убейте меня!
— Алкоголик! Обезьяна! — захлебнулся Тарасюк.
— Повеситься я хотел — реально! Была мысля. Опосля. А яд… Да откуда?! Где бы я его взял?!
— Ребенок… — сказала Аня. — Большой злой ребенок. Избалованный, самовлюбленный.
Виктор поднялся, отряхивая колени.
— Вячеслав Владимирович для меня святой!
— Happy end. — Надя имела основания радоваться, что затянувшийся сюжет в конце концов все же закончился. Вполне пристойным, драматургически завершенным финалом. Казалось, она испытывала потребность поделиться своим облегчением с окружающими: ну, ребята, умора же! К счастью, никто не обращал на нее внимания и она, поколебавшись, смолчала.
Аня возвратилась к телефону, и это неизвестно уж почему задело Куцеря. Не успела она обменяться с Вадимом двумя словами, как Куцерь внезапно шагнул к ней и вырвал трубку.
— Вадик! — срывающимся голосом объявил Виктор. — Ты тут единственный умный человек. Потому что не тут. Вадик, ты, конечно же, понял.
Хмурая и злая, Аня переминалась в намерении выхватить телефон, едва только Виктор подставится.
— Шут гороховый! — прошипел Тарасюк.
— Убийство отменяется! — продолжал Куцерь с вновь проснувшимся красноречием. Похоже, прежний, только что отмененный спектакль оставил его в неудовлетворенных, болезненно раздраженных чувствах. — Господин художник так все хорошо разложил, что я уж тут ерзал, ерзал, каб прежде времени в штаны не наделать. Вадик, ты должен описать это в своей новой книжке. Слушай сюда: вот господин художник. Кусает локти. Записывай, Вадик. Вот Леночка Полякова хмурится, наша прима: талия короткая, нос горбатый — красавица. Фыркнула! Ишь ты! Вот Корженевский Леник — ему Колмогоров велел работать над сценическими данными: рожу пообтесать и выгладить. Тарасюк… ну, это наша совесть общественного пользования. Лешка Кацупо — наш ум… закулисный.
— Дай сюда! — не выдержала Аня.
Но Виктор краснобайствовал, заграждая трубку локтем:
— Надо только, Вадик, чтоб ты уяснил главное: артистов балета различают между собой по ногам.
— Дай сюда! — злилась Аня.
Борьба, видно, устраивала Куцеря, борьба — всякая возня с соприкосновениями и объятиями.
— Вадику тоже знать хочется! — Он вскидывал руку с телефоном, побуждая ее подпрыгивать и тянуться.
Народ между тем подумывал расходиться. Толпа редела, разговоры сводились к малозначащим репликам, к междометиям и выразительным гримасам. Останки кресла валялись посреди сцены.
— Черт с тобой! — бросила Аня. — У меня два телефона. Я ухожу.
— Послушайте, где чашка? — запоздало всполошился вдруг Генрих. — Куда Богоявленская унесла?
— Помыть, — сказала Надя.
— Да она с ума сошла! — взвился Генрих.
— А что теперь? На что тебе чашка?! — с ноткой раздражения возразил Кацупо.
Последний всплеск измучивших всех недоразумений, заставил людей — кто собрался было уходить — задержаться. Многие с сочувствием смотрели, как нервничает непонятно из-за чего уже Генрих.
— Вадик, я тебе такое про Аньку скажу — на три романа хватит! — захлебывался, блуждая по сцене, Виктор.
Аня ушла. В гримерной она переоделась и, уже в плаще, выключив свет, взявшись за ручку двери, опять остановилась.