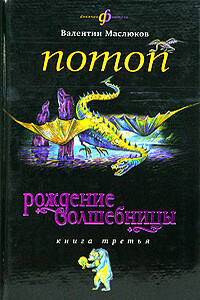— Творчество… я думаю, среди прочего, творчество — это способность узнавать и чувствовать искомое — то, что ты ищешь. Чувствовать точное решение. Узнавать свое, не обманываясь маскарадом случайных положений, призрачных лиц, видений, не обманываясь этим увлекающим в никуда хороводом. Приблизительное само лезет в руки. Приблизительное. Преувеличенное. Случайное. Пустое, и от внутренней пустоты велеречивое, переусложненное. Упрощенное до примитива, но ярко зато размалеванное и напыщенное… Искушения обступают, движутся вокруг тебя со свистом да с притопом. С глумлением и неприличными жестами. Не поддаваться. Не страшится. Без отчаяния. Через отчаяние. С твердой верой. С мужеством. Узнать свое, настоящее, единственное — и вздрогнуть. Ахнуть и затаить дыхание, чтобы не расплескать, не упустить едва, только-только краешком вдруг показавшееся. Вот так… И когда работа близится к концу и облик творения определился, мало что можно уже изменить, тогда только начинаешь догадываться, какой степени совершенства тебе удалось достичь. Как близко ты подошел к возможному. Тебе подскажет это правдивое внутреннее чувство. Радость, счастье, ошеломление после всех мук: ай да Пушкин, ай да молодец, ай да сукин сын! Или, несмотря ни на какой самообман, ни на какие похвалы и премии, сосущее душу неудовлетворение. Каждый, что бы он о себе ни мнил, на какие бы котурны он там ни вставал, где-то в глубине души, нутром, художнической своей утробой — если он хоть каплю художник! — чувствует. Потому что великое создание больше своего создателя. Рядом с великим не ошибешься. А это, что я тут слепил, немедленно произведенный в гении, — это как раз вровень. В мой собственный рост. И это рассыплется в прах, на каких бы подпорках оно ни стояло. Несовершенное возвращается в первобытный хаос, из которого таким мучительным, таким долгим, изнуряющим усилием… пожирающим самую нашу жизнь усилием каждый из нас в отдельности и все вместе, цепляясь друг за друга, мы пытались что-то извлечь. Не извлекли. Не опознали. Не угадали. Обманулись миражами рассеянного всюду, такого доступного, очевидного, но, в действительности, не уловимого совершенства. Заблудились. Запутались в отражениях.
Он замолчал, но все по-прежнему чего-то ждали. И, понуждаемый тишиной, Колмогоров заговорил опять:
— Если мы с вами сейчас не дотянемся… не найдем это замаячившее тенью совершенство… не знаю — идеал… Наше творение, уже как будто бы состоявшееся, заколеблется, обращаясь в туман… побледнеет, развеется… И опять на губах привкус и пустота в руках.
Он остановился. И снова сосредоточенная тишина заставила его как будто бы уже через силу, сверх необходимого продолжать:
— Хотя само слово идеал захватанное. Что-то тут и слащавое, и искусственное… что-то от готового образца для подражания. И вообще вот что. Не надо понимать под совершенством красоту. Я понимаю под совершенством точность. Красота рождается из точности. А вот из красоты точность не рождается — если ставить себе целью сделать красиво. Нужно ставить себе цель делать точно, тогда появится красота совершенства… И потом наше дело суровое. Мастеровитое. Будем тюкать.
Неожиданно для Нади он скорчил рожу, изображая озадаченность недалекого работника, не знающего, с какой стороны подступиться к делу. Неуклюже взмахнул руками, как бы принявшись было что-то рубить, и шагнул пару раз, извиваясь и подволакивая ногу на манер порченного. Послышался смех.
Но Генрих, внутренне почему-то задетый, как заметила Надя, громко, со строгой интонацией произнес, возвращая всех к сказанному:
— Браво! Браво! И добавить нечего.
— Будем работать, — подтвердила педагог Раиса Бурак. Она тоже, по видимости, не одобряла легкомыслия. В этой неулыбчивой женщине, худенькой, почти без грудей, чувствовалась сошедшая со сцены балерина, которая — как и многие здесь — давно, в незапамятные уже времена утратила способность существовать вне театра.
Народ расслабился, задвигался, заходил, послышались случайные реплики. Все сказанное Колмогоровым представлялось столь значительным и в то же время столь очевидным — до степени даже математической формулы, что обсуждать было нечего — невозможно по общему чувству. А заключительная выходка Колмогорова — Надя как будто себе не верила, что это и вправду был Колмогоров, — исключала уже возможность какого-либо серьезного разговора.