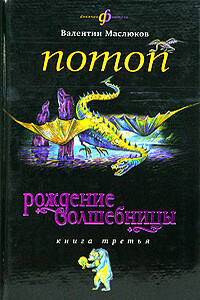— Хочешь, я дам ему в морду? — ухмыльнулся Виктор.
— Не хочу. Пошли, — отрезала Аня и дернула Виктора за руку.
Оставшись один, Генрих Новосел запер дверь и, сунув руки в карманы, остановился перед мольбертом.
— И вправду зеленая! — мрачно произнес он после такого продолжительного молчания, что можно было бы ожидать чего-то и худшего.
Потом он взял скребок и, не изменив холодно-брезгливому выражению, принялся счищать свежую, суточной давности краску. Блекло-зеленые поскребыши сыпались на пол. Ничто в этих рыхлых комках на грязных, заляпанных синим, желтым, красным половицах не напоминало больше дерзкого взгляда Майи, ее едва тронувшей губы улыбки — ничего из того, что так вдохновляло Генриха двадцать часов назад. Исчез оценивающий прищур глаз, осыпались щека… ухо. На изуродованном полотне разрасталась прочищенная до грунта язва, провал который венчал собой волну зеленого тела. Круто вздыбившееся бедро держал в незыблемости один лишь угольник лона. Новосел тронул угольник взглядом, не ставшим от этого мягче.
Вячеслав проснулся и осторожно, чтобы не потревожить Майю, потянулся за сигаретами. Он знал, что жена спит, но если тихо-тихо прошептать «Майя!», то она так же тихо, не вздрогнув и не удивившись, прошепчет: «что?»
Между оконными шторами проступала серая муть. Но томление недоспавшего тела, жадная мысль о затяжке убеждали, что скоро вставать.
Без десяти пять. Он вышел на кухню, уселся, запахнув халат, и вдохнул омывающий чувства дым.
Где-то далеко мышиным шорохом в неестественной тишине прошуршала машина.
Утренний туман в голове не сильно ему досаждал, потому что он знал, что даровые, заимствованные у ночи минуты ничего не значат, что он ляжет, когда захочет, и свободен расслабиться в растительном, ни к чему не обязывающем безделье.
Привычная бессонница походила на легкое наркотическое опьянение, а всякое опьянение приносит удовольствие, если ты настроен принимать его как благо, а не как отраву. Не имея большого выбора, Вячеслав приучился переживать этот утренний час как по-своему даже приятное время. Не хватало, пожалуй, лишь кофе, но он не мог позволить себе этого удовольствия часов до восьми, поскольку сознавал характер своего тяжелого и неизлечимого уже, надо полагать, недуга: кофе и сигареты, сигареты и кофе. Некоторая доля самоограничения позволяла спокойнее, без угрызений совести принимать и самый недуг. Нужно было, наконец, как-то ограничивать себя, чтобы получать удовольствие от быстро теряющей вкус табачной заразы и какое-то возбуждение от чрезмерных доз кофе.
Как всякий переваливший через вершину человек, Вячеслав не так уж редко и чем дальше, тем чаще, прикидывал, сколько ему еще осталось. Следовало признать, что сигареты и кофе сокращают естественный срок на десять-пятнадцать лет. Временами он, не особенно еще тому веря, искал в себе признаки старости. Но смерть представлялась ему далеким абстрактным злом, как не вызывающее чрезмерных эмоций несчастье на исходе жизни.
Этот взгляд в бездну, думал он, был возможен для него потому, что имелась вторая, параллельная жизнь в творчестве. Имелось у него второе, отдельное существование, которое развивалось в иной, не подчиненной законам телесной жизни реальности. И, в самом деле, когда перевалишь через вершину, жизнь начинает отнимать. Но творчество все еще прибавляет. Творчество вообще питается верой, что твоя нынешняя или следующая работа будет лучше предыдущей, что сегодня или завтра ты сможешь сказать то, что еще не сказал, но к чему как будто все подступал и подступал. Что именно она, нынешняя или завтрашняя работа, станет твоим высшим созданием, лучшим из всего того, чему ты дал жизнь, отделив от себя часть своего смертного «я». А это есть выражение страстной потребности бессмертия — глубинной, изначальной человеческой потребности, порождающей в конечном счете все самые сильные и самые слабые, все вообще проявления человеческого духа.
Потребность созидания и потребность разрушения происходят из одного и того же источника — из подавленной, загнанной в подполье души потребности бессмертия. Эта потребность порождает любовь, как способ выйти за пределы своего «я», порождает созидание, потребность придумать, построить, посадить, потребность родить детей. Порождает самоубийство как способ показать смерти кукиш, разрушить наваждение ее холодной, не оставляющей человеку выбора власти. Порождает мстительную тягу к разрушению и убийству — чужая смерть как искупление собственного бессилия. Порождает эгоизм и порождает самоотверженность. Туман религии и ясность атеизма. Потребность обнять, охватить собою людей, весь мир, и прошлое, и настоящее, и будущее, жить всемирным существованием и всемирной болью. И потребность замкнуться в скорлупе, отвернуться к стене и закрыть уши подушкой. Или вести обыденное существование, применяясь к общему шагу, чтобы легче было нести свою отдельную ношу. Потребность сотворить свою жизнь и потребность бездумно ее растратить.