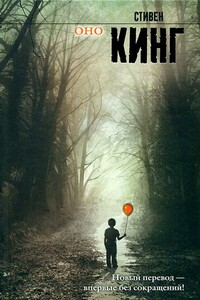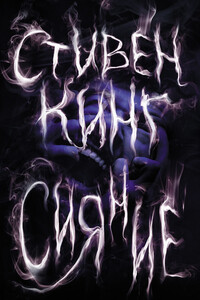– Нет, – поправил он, и в его голосе послышался не то гнев, не то слезы. – Она ругается.
– О Боже. – Я все еще не понимал, что это значит, но не хотел ничего выспрашивать. Да и не надо было. Он все сам объяснил.
– Она может спокойно сидеть, вполне нормально говорить о своем цветнике или о платье, увиденном в каталоге, о том, что слышала Рузвельта по радио и то, как замечательно он говорил, а потом вдруг начинает произносить ужасные вещи, самые ужасные... слова. Причем не повышая голоса. Лучше бы она как-то выделяла их интонацией, а иначе... просто...
– Она не похожа на саму себя.
– Да, именно так, – благодарно произнес он. – Но слышать эти грязные ругательства, произносимые ее чудесным голосом... извини меня. Пол. – Его голос ушел, и я услышал, как Мурс громко прокашливается. Потом голос стал чуть тверже, но все равно оставался расстроенный. – Она хочет, чтобы пришел пастор Дональдсон, и я знаю, что он ее успокаивает, но как можно просить его? Представляешь, он сидит и читает с ней Писание, и вдруг она обзывает его неприлично?
А она может, она и меня назвала прошлой ночью. Сказала: «Дай мне, пожалуйста, вот тот журнал „Либерти“, ублюдок». Пол, где она могла слышать такие речи? Откуда ей известны такие слова?
– Не знаю, Хэл, ты будешь дома сегодня вечером? Когда он был здоров, контролировал себя и не был в тревоге или в горе, Хэл Мурс отличался особым сарказмом, по-моему, его подчиненные побаивались его острого язычка больше, чем гнева или подозрения. Его язвительные замечания, обычно раздраженные или даже резкие, жгли, как осы. И вот немного такого сарказма пролилось на меня. Хотя это было неожиданно, я был рад услышать его колкость. Значит, не вся жизнь ушла из него, в конце концов.
– Нет, – сказал он. – Мы с Мелиндой выезжаем на танцы. Будем танцевать «до-со-до», потом немецкую полечку, а потом скажем скрипачу, что он – долбаный сукин сын.
Я прижал ладонь ко рту, чтобы не рассмеяться. Слава Богу, приступ смеха очень быстро прошел.
– Извини, – сказал он. – Я последнее время мало сплю. От этого становлюсь брюзгой. Конечно, мы будем дома. А почему ты спросил?
– Я думаю, это не важно.
– Ты ведь не собирался заезжать, да? Потому что, если ты дежурил вчера, то идешь в ночную и сегодня. Или ты поменялся сменами с кем-нибудь?
– Нет, я не менялся, – ответил я. – Я дежурю сегодня.
– Во всяком случае сегодня не стоит заезжать. Она сейчас не в том состоянии.
– Скорее всего я и не заеду. Спасибо за новости.
– Не за что. Помолись за Мелинду, Пол. Я пообещал, думая что смогу сделать кое-что, кроме молитвы. «Бог помогает тем, кто помогает себе сам», – так говорили в Церкви молитвы «Отче наш, сущий на Небесах». Я повесил трубку и взглянул на Дженис.
– Как там Мелли?
– Не очень. – Я рассказал ей то, что сообщил мне Хэл, включая эпизод с руганью, но опустил слова «ублюдок» и «долбаный сукин сын». Я закончил словом Хэла «угасает», и Джен печально кивнула. Потом посмотрела на меня более пристально.
– О чем ты думаешь? Скорее всего о чем-то нехорошем. Это написано у тебя на лице.
Солгать было нельзя, мы никогда не лгали друг другу. Я просто сказал, что ей лучше не знать о моих мыслях, по крайней мере пока.
– А у тебя... из-за этого могут быть неприятно-сти? – Ее голос звучал не тревожно, а скорее заинтересованно, это мне в ней всегда нравилось.
– Может быть, – проговорил я.
– А это хорошее дело?
– Может быть, – повторил я. Я все еще стоял и бездумно крутил пальцем телефонный диск, удерживая другой рукой рычаги.
– Ты хочешь, чтобы я ушла, пока ты будешь звонить? – спросила она. – Буду умненькой и выметусь? Вымою тарелки? Свяжу носочки?
Я кивнул.
– Я бы выразился не совсем так, но...
– У нас будут гости к обеду, Пол?
– Надеюсь, да, – сказал я.