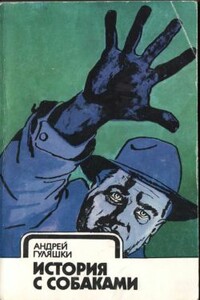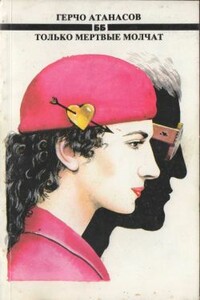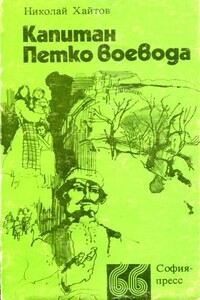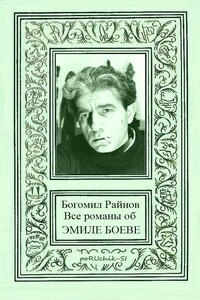– Не могу. Сам видишь, сколько у меня книг, и все нужные для справок. Нужно работать. Не могу.
Однажды, только я ушел от него, как пронзительно завыли сирены. Я знал, что отец не любит спускаться в бомбоубежище, и потому вернулся.
– Давай спустимся в подвал. Там все же надежнее. Отец с выражением досады на лице покачал головой.
– Не хочу. Мне там душно. Если уж умирать, так лучше под открытым небом.
Со стороны Витоши донесся тяжелый гул.
– На этот раз много падает, – бесстрастно заметил он, как сказал бы «сегодня жарко».
Какое-то мгновение спустя послышались первые взрывы. Они становились все чаще и оглушительнее. Начиналась большая бомбардировка, в результате которой был разрушен центр Софии.
Наш дом стоял как раз в центре. Неожиданно его затрясло, снаружи потемнело, будто опустилась ночь. Мы сидели за столом, и вдруг нас подхватило воздушной волной и швырнуло в коридор. Некоторое время я не мог понять, что происходит, только слышал, что над самой головой у нас раздаются взрывы, дом ходит ходуном, как картонная коробка. Отец сумел подняться на ноги и уже стоял в полумраке в той самой несколько оцепенелой и чуть вызывающей позе, в какой я когда-то видел его на сцене городского казино перед налетавшей на него сворой. Я чувствовал, что при каждом взрыве инстинктивно сжимаюсь, будто это могло помочь, если внезапно на меня упадет бетонная плита.
– Бежим! – сказал я ему, когда взрывы начали обходить нас стороной, а мрак и дым немного рассеялись.
– Ты иди, а я останусь, – пробормотал отец, направляясь в комнату.
– Неужели ты не видишь, что здесь уже необитаемо? Окна выворочены, все вокруг горит, а наверное, еще будут налеты.
Отец огляделся, и, вероятно, до него дошел смысл сказанного, потому что он бросил:
– Найди мой вещмешок.
Пока я разыскивал вещмешок, он собрал разбросанные повсюду рукописи, кое-как связал их в стопки и уже был готов идти. Он решил отправиться в Княжево (пригород Софии), где жил мой брат, так что я попрощался и ушел незадолго до нового налета.
Через несколько дней, спустившись в обезлюдевший город, я решил пойти посмотреть, уцелела ли отцовская квартира. Квартира уцелела, хотя дом был наполовину разрушен, а вокруг торчали обгоревшие скелеты зданий. В самой же квартире я нашел ее обитателя.
– Не хочет жить в Княжево, и все тут, – в дверях сообщила мне женщина, заботившаяся о домашнем хозяйстве Старика. – «Не могу – говорит – работать, поеду назад».
Он сидел, склонившись над столом, каким я его помнил всегда, и писал. Оконные рамы, кое-как приколоченные, были на месте, а вместо стекол была натянута пергаментная бумага. Я попытался было вразумить его, обещал, что помогу перенести часть книг. Старик только покачал головой.
– Я же сказал тебе: у меня много работы, а времени мало. Как-никак, годы уже не те.
В тот период я имел весьма смутное представление о том, что пишет отец и что ему предстоит дописывать. Подробности я узнал позже, в день выхода первой публикации, тот самый день, которого Старик ждал, как праздника, но который обернулся катастрофой. Сейчас, перелистывая горы рукописей, я недоумеваю, как у него не треснула голова от неисчерпаемого множества героев, фактов, ситуаций, от того колоссального образного материала, родившегося в его лихорадочном воображении как эквивалент всего человечества и всей человеческой истории.
Впрочем, возможно, голова и в самом деле треснула бы, если бы не часы «разгрузки» от умственной усталости. Только разгрузку отец практиковал в самой банальной и нездоровой форме – загулах. Он отлично сознавал, что это лишь подобие отдыха, кажущаяся передышка, а на самом деле лишь дополнительное истощение, хоть и другого свойства. Однако богемные привычки молодых лет, инерция образа жизни мешали ему найти более здоровую отдушину.
В интересах истины следует отметить, что загулы у отца были довольно редкими. И все же, поскольку это были почти единичные случаи, когда он появлялся на людях, кое-кто воображал, будто он не выходит из трактиров, и даже удивлялся, как же в таком случае появились на белый свет 80 томов его сочинений. Верно, сидя за рюмкой, он мог пить без меры, однако не из пристрастия к алкоголю, а ради «разгрузки», чтобы дать перегруженному мыслями мозгу отдых, направить свое сознание пусть в бесплодном, но зато позволяющем расслабиться направлении. В его загулах никогда не было элемента разгула. Они исчерпывались разговорами и рассуждениями о том о сем, а больше всего об искусстве. Этот молчаливый до невозможности человек вдруг становился общительным, даже словоохотливым собеседником, готовым разговаривать не на какие-то «свои», а на любые предложенные ему темы. Мысль его текла логично, замечания были остроумны и для людей, любивших больше слушать, чем говорить, было удовольствием сидеть с ним за рюмкой. Помню, как однажды отец вернулся заполночь, держа под руку Владимира Димитрова-Мастера.