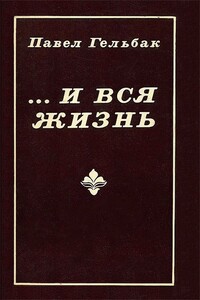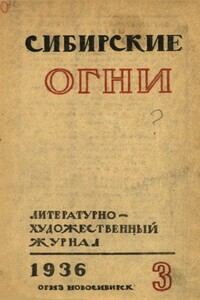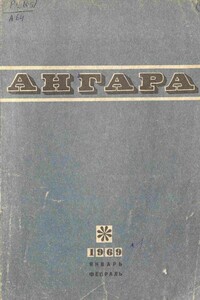Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего! Тьма…
Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь с воем скорый в Москву и даже не остановится — не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути.
Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров…
Мы же одни.
— Тьма египетская,— заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору.
Выражается он торжественно, но очень метко. Именно — египетская.
— Прошу еще по рюмочке,— пригласил я. (Ах, не осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по две рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?)
— За ваше здоровье, доктор! — прочувственно сказал Демьян Лукич.
— Желаем вам привыкнуть у нас! — сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами.
Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки.
— Я решительно не постигаю,— заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой,— что эта баба сделала с белладонной. Ведь это же кошмар!
Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок.
Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет тридцати. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво:
— Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли!.. Пожалуйте еще баночку.
Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича: «Тинцт. Белладонн…» и т. д. «16 декабря 1917 года».
Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить.
— Ты… ты… все приняла вчера? — спросил я диким голосом.
— Все, батюшка милый, все,— пела бабочка сдобным голосом,— дай вам Бог здоровья за эти капли… полбаночки — как приехала, а полбаночки — как спать ложиться. Как рукой сняло…
Я прислонился к акушерскому креслу.
— Я тебе по скольку капель говорил? — задушенным голосом заговорил я.— Я тебе по пять капель… Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж… я ж…
— Ей-богу, приняла! — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белладонной.
Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления белладонной у бабы не замечалось.
— Этого не может быть!..— заговорил я и завопил: — Демьян Лукич!
Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора.
— Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала! Я ничего не понимаю…
Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась.
Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил:
— Ты, милая, врешь. Ты лекарство не принимала!
— Ей-бо…— начала баба.
— Бабочка, ты нам очков не втирай,— сурово, искривив рот, говорил Демьян Лукич,— мы все досконально понимаем. Сознавайся, кого лечила этими каплями?
Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась.