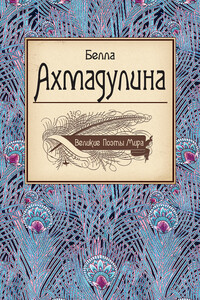— Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут…
Глаза у акушерок засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал как зачарованный. О том, что, когда приходится везти роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Ивановна свои сани всегда сзади пускает: не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти, и хорошо, что хоть мать спас. О том…
Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо и землю.
Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки-печки, и слышно было, как грызла где-то деловито мышь.
«Ну, нет,— раздумывал я,— я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар-рафинад… Скажите пожалуйста!..»
В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника, а в клинике — громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент с остроконечной, очень мудрой, седеющей бородкой…
Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул…
— Кто там, Аксинья? — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах: вверху кабинет и спальня, внизу — столовая, еще одна комната — неизвестного назначения — и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья-кухарка — и муж ее, бессменный сторож больницы).
Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повеяло холодом. Потом Аксинья доложила:
— Да больной приехал…
Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышиной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное — не роды.
— Ходит он?
— Ходит,— зевая, ответила Аксинья.
— Ну, пусть идет в кабинет.
Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы двадцатичетырехлетняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере.
В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры.
— Чего же это вы, батюшка, так поздно? — солидно спросил я для очистки совести.
— Извините, гражданин доктор,— приятным, мягким басом отозвалась фигура,— метель — чистое горе! Ну, задержались, что поделаешь, уж простите, пожалуйста!..
«Вежливый человек»,— с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло.
— В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?
Шуба легла горой на стул.
— Лихорадка замучила,— ответил больной и скорбно глянул.
— Лихорадка? Ага! Вы из Дульцева?
— Так точно. Мельник.
— Ну, как же она вас мучает? Расскажите!
— Каждый день, как двенадцать часов, голова начинает болеть, потом жар как пойдет… Часа два потреплет и отпустит.
«Готов диагноз!» — победно звякнуло у меня в голове.
— А в остальные часы ничего?
— Ноги слабые…
— Ага… Расстегнитесь! Гм… так.
К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпателя, после этой утренней штуки с белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.