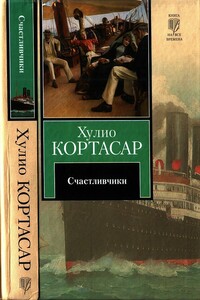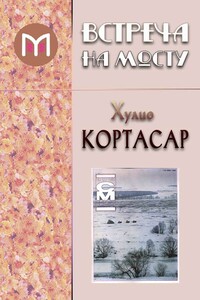Я повидался с Монтесано и кое-что ему рассказал, надеясь услышать о том, что известно ему. Однако мне показалось, он не поверил, возможно, он сам напал на след, а более вероятно, предпочитает вежливо не вникать во что-либо выходящее за рамки его воображения, не говоря уже о воображении начальства. После того как он со словами: «Вы устали, вам бы неплохо попутешествовать» — похлопал меня по плечу, я понял, что бесполезно дальше говорить с ним, еще обвинит меня, будто я отравляю ему жизнь своими шизофреническими фантазиями.
А попутешествовать я мог только по «Англо». Меня немного удивило, что Монтесано не принимает никаких мер, по крайней мере против Первого и тех троих, не рубит верхушку этого дерева, корни которого все глубже и глубже проникают сквозь асфальт в землю. Затхлый воздух, лязг тормозов останавливающегося поезда — и вот на лестницу хлынул поток усталых людей, обалдевших от тесноты в битком набитых вагонах, где они простояли всю дорогу. Я должен бы подойти к ним, оттащить по одному в сторону и все объяснить каждому, но в этот момент я слышу шум приближающегося поезда, и меня охватывает страх. Когда я узнаю кого-нибудь из их агентов, кто спускается или поднимается со свертком одежды, я скрываюсь в кафе и долго не решаюсь выйти оттуда. За стопкой джина я думаю о том, что, как только мужество вернется ко мне, я спущусь и установлю их количество. По-моему, сейчас в их руках все поезда, сотрудники многих станций и частично ремонтных мастерских. Продавщица кондитерского киоска на станции «Лима» могла бы заметить, что товаров у нее расходится все больше. С трудом подавив спазмы в желудке, я спустился на перрон, повторяя себе, что в поезд садиться не буду, не буду смешиваться с ними; всего два вопроса — и наверх, а там я в безопасности. Я опустил монетку в автомат, подошел к киоску и, делая покупку, заметил, что продавщица пристально смотрит на меня. Красивая, но такая бледная, очень бледная. В отчаянии я бросился к лестнице и, спотыкаясь, расталкивая всех, побежал наверх. Сейчас мне кажется, я никогда больше не смогу спуститься туда, — меня уже знают, кончилось тем, что меня узнали.
Я провел в кафе целый час, прежде чем решился снова ступить на верхнюю ступеньку лестницы, постоять среди людей, снующих вверх-вниз, хотя на меня и поглядывали, не понимая, почему я застыл там, где все движется. Невероятно — неужели, завершив анализ их общих методов, я не сделаю окончательного шага, который позволит мне разоблачить их самих и их намерения? Не хочется думать, что страх до такой степени владеет мной; возможно, я решусь, возможно, будет лучше, если я, ухватившись за лестничные перила, буду кричать, что знаю все об их планах, знаю кое-что о Первом (я скажу это, пусть Монтесано и не понравится, если я нарушу ход его собственного расследования) и особенно о том, чем все это может кончиться для жителей Буэнос-Айреса. Я все пишу и пишу, сидя в кафе. Ощущение, что я наверху и в безопасности, наполняет мою душу покоем, который тотчас исчезает, едва я спускаюсь и дохожу до киоска. И все же я чувствую, что так или иначе спущусь, я заставлю себя спуститься по лестнице шаг за шагом, но будет лучше, если я прежде закончу свои записи и пошлю их префекту[10] или начальнику полиции, а копии — Монтесано, потом заплачу за кофе и обязательно спущусь, хотя не знаю пока, как я это сделаю, где я возьму силы, чтобы спуститься ступенька за ступенькой сейчас, когда меня знают, сейчас, когда меня в конце концов узнали, но это уже не важно, записи будут закончены, и я скажу: господин префект или господин начальник полиции, кто-то ходит там, внизу, кто-то ходит по перрону и, когда никто, кроме меня, не видит и не слышит, заходит в едва освещенную кабину и открывает сумочку. А потом плачет, совсем недолго плачет, а потом, господин префект, говорит: «Как там канарейка, ты приглядываешь за ней? Даешь ей по утрам семя и немножко ванили? »