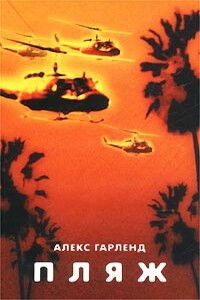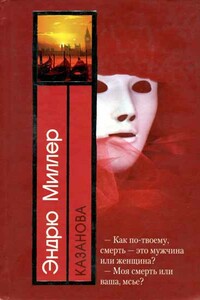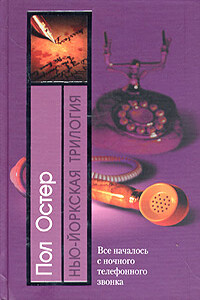— Ты можешь полететь со мной.
— В Париж?
— Почему нет? Мы можем полететь втроем.
— Нет. Только не сейчас. Лети один. По крайней мере, если ты вернешься, то по собственному желанию.
— Что значит «если»?
— То и значит. Если ты вернешься.
— Ты что, серьезно?
— Более чем. Если так будет продолжаться, я тебя потеряю.
— Софи, не говори так.
— А как мне говорить? Я тебя уже почти потеряла. Мне иногда кажется, что ты исчезаешь прямо на глазах.
— Глупости.
— Вовсе нет, мой дорогой. Ты не понимаешь, мы остановились у последней черты. В один прекрасный день ты исчезнешь, и больше я тебя не увижу.
В Париже мир для меня как будто раздвинулся. Небо было все на виду, не то что в Нью-Йорке, и игра света отличалась какой-то изощренностью. Первые два дня я не мог отвести глаз — сидел у окна в своем гостиничном номере и наблюдал за облаками. Они двигались с севера и постоянно трансформировались: то собирались в грозную серую армаду, чтобы пролиться дождем, то рассеивались, то набегали на солнце, и тогда преломленные лучи начинали переливаться всеми цветами радуги. Парижское небо живет по своим законам, не имеющим ничего общего с теми, что царят в городе. Если дома кажутся прочными, построенными на века, то небеса аморфны и изменчивы. Первое время мне казалось, что меня поставили с ног на голову. Этот город, визитная карточка Старого Света, не имеет ничего общего с Нью-Йорком — с его уличной суетой на фоне застывшего неба и агрессивными небоскребами, цепляющими равнодушные облака. Вырванный из привычной среды, я чувствовал неуверенность, я потерял хватку и время от времени должен был соображать, зачем я здесь.
Мой французский, прямо скажем, не ахти. Я понимал окружающих, но сам говорил с трудом и часто, пытаясь объяснить простые вещи, не находил нужных слов. В этом, пожалуй, есть своего рода прелесть — воспринимать язык как набор звуков, скользить по поверхности слов, лишенных смысла, — но это не может не утомлять, так как оставляет человека наедине с собственными мыслями. Чтобы вникнуть в чужую речь, я в уме переводил ее на английский, то есть постоянно опаздывал на несколько тактов и в результате, затратив много усилий, понимал дай бог половину. Нюансы, скрытые ассоциации, подтексты — все это было мне недоступно, да и то, что казалось доступным, по большому счету, наверно, таковым не являлось.
Я не сдавался. Несколько дней ушло на подготовку, и за первым контактом последовали другие. Не обошлось без разочарований. Умер Вышнеградский; не удалось разыскать людей, которых Феншо учил английскому; давно ушла из парижской редакции «Нью-Йорк тайме» женщина, взявшая его на работу. Хотя это было в порядке вещей, каждый раз я расстраивался не на шутку, прекрасно понимая, что любой пробел может оказаться роковым. В картине появлялись белые пятна, и, как бы успешно ни шло ее восстановление, трудно было отделаться от мысли, что я никогда не доведу начатое до конца.
Я поговорил с Дедмонами, с издателем, для которого Феншо рецензировал книги по искусству, с Анной, оказавшейся его бывшей подружкой, с кинопродюсером, подбрасывавшим ему халтуру.
— Он брался за все подряд. — Продюсер говорил по-английски с русским акцентом. — Переводы, синопсисы, даже что-то писал за мою жену. Смышленый парень, но упрямый. Насквозь литературный — понимаете, что я хочу сказать? Я решил дать ему шанс попробовать себя в качестве актера. Мы запускали новую картину, и я считал, что для него там есть роль. Надо было взять несколько уроков фехтования и верховой езды. Он не проявил никакого интереса. У меня, говорит, дел по горло. Так и сказал. Дело хозяйское. Картина принесла миллионы — что с ним, что без него.
Из этого человека, обладателя царских хором на авеню Анри Мартен, наверняка можно было что-нибудь вытянуть, но в какой-то момент, ловя очередную недосказанную фразу между двумя деловыми звонками, я сказал себе: «Достаточно». Меня интересовал, в сущности, только один вопрос, на который у моего собеседника нет ответа. Так зачем мне новые детали, не относящиеся к делу подробности, кипа исписанных страниц? Я слишком долго делал вид, что пишу книгу, и, кажется, начал забывать о своей главной цели. «Все, хватит!» — сказал я себе, вторя Софи, и быстро ретировался.