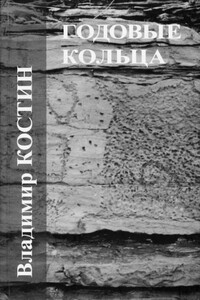Я уже говорил, что мы легко узнаем друг друга. Но окружающие распознают нас просто мгновенно — и всякое лыко ставят нам в строку — уклон в иудейство и уклон в христианство, дурацкую торжественность на фоне всенародного хихиканья и неуместную улыбку во время торжественной церемонии, космополитизм и национализм, любовь к России и ненависть к России. Еще не видя "своего", но заслышав издали возгласы благонамеренной толпы, свист и улюлюканье, визгливые обвинения в непат-риотизме, увидев жирные спины, сгрудившиеся вокруг чего-то маленького и беспомощного, я с уверенностью roBoptb: "Это бьют кого-то из наших". Через несколько минут все уже кончено, толпу рассасывают близлежащие переулки, а с земли подымается нечто бесформенное и, всхлипывая, бредет куда-то, покачиваясь и протирая рукавом разбитые очки. Стоит ли спрашивать его, куда он направляет свои стопы — домой? в Израиль? в Новую Зеландию?
Уже несколько лет из промозглых советских потемок постепенно выплывает на свет Божий неведомый прежде остров, называющийся Борис Хазанов, — рассказы, повести, стихотворения, переводы, статьи. И все чаще встречаются люди, которые, говоря о современной русской литературе, естественно дополняют этим новым именем короткий список, составленный из немногих, ставших уже привычными, имен. Хотя — если проверить гармонию хазановской прозы дотошной литературоведческой алгеброй — обнаруживается одна трудно объяснимая странность (другому писателю подобная странность могла бы стоить репутации!): Хазанов кажется нам совершенно самостоятельным и оригинальным писателем, а между тем многие его произведения (признаваемые всеми в числе лучших) с простодушной откровенностью кого-то или что-то напоминают — Томаса Манна ("Час короля"), Кафку ("Дорога на станцию", "Частная и общественная жизнь начальника станции".), Камю ("Идущий по воде")… Чем больше я размышлял над этим противоречием, тем более важным оно мне казалось, пока я не понял наконец, что в нем-то и зарыта "зеленая палочка", скрытая в глубине творчества всякого истинного писателя…
Около пяти веков назад старец псковского Елеазарова монастыря Филофей сформулировал известную историософскую концепцию "Москва — третий Рим". "И странное дело, — с удивлением отмечает современный историк, — теория эта обосновывала право московских князей на центральную власть в России, предрекала Москве роль вечного центра мировой истории, ибо четвертому Риму "не быти", но тем не менее она осталась, в конечном счете, всего лишь теоретической конструкцией, не получила широкого и долговременного применения в практике московского правительства". Одним словом — концепции псковского старца не повезло; с концепциями, как и с людьми, это бывает. Ее не то что забыли, но вспоминали как-то без энтузиазма, а порою — и с явным раздражением. Уж больно неримским был Филофеев Рим — с его неуклюжей свирепостью, немилосердной стужей и раскосым христианством. Но через много сотен лет обнаружилось, что старец был не совсем неправ…
"Что мы знаем твердо, так это то, что мы пришли после катастрофы", — утверждает в одной из своих статей Борис Хазанов. И далее: "Мы живем в сознании великой потери". А раз была катастрофа, раз произошла великая потеря — значит был и Рим? Конечно, Москва Василия Темного и Мал юты Скуратова не была истинным Римом — в той же самой мере, в какой и действительный Рим Неро-iHa и Домициана не был тем Римом, который стоило бы оплакивать. "Тюрьма народов", "жандарм Европы", "нация рабов" — эти бранные клички одинаково годились и для императорской России, и для императорского Рима. Но великие и бесчеловечные Империи не только казнят, запрещают, завоевывают и подавляют — они меценатствуют, забывают, прощают и смотрят сквозь пальцы. В жестких складках шкур этих Левиафанов ухитряются кое-как коротать свой век Достоевские и Петро-нии, Овидии и Пушкины, Чаадаевы и Тациты… Их объявляют безумцами, ссылают в Дакию или на Кавказ, убивают на дуэли, им высочайше приказывают перерезать себе вены — и все-таки их венчают лавровыми венками, все-таки они плоть от плоти Империи, ее посмертная гордость, вечный укор ее совести. Империя не только убивает их — она их возвеличивает (часто против своей воли), и они, смиренные каторгой или смертью, платят ей тем же.