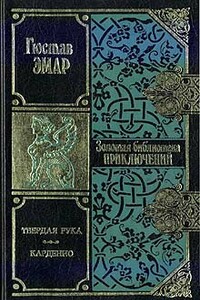Слишком много доставлено сюда генуэзцами оружия, припасов; надо думать, скоро прибудут новые ратники, каменщики, плотники. Надо брать замок, покуда легко. Да не приспело еще с любовью, не может еще подъехать Василь к полюбившейся женке на коне, ведя в поводу второго, и приказать ей: седай! Чует хитрый писарь — не готово к тому еще Аньолино гордое сердце. Вот и медлит Бердыш, не зовет с Днепра братов. Сроки, мыслит, еще не вышли, покуда вернется галея — недельки две пролетят. И не нужно, не нужно за то промедление осуждать влюбленного.
Решил, видимо, не спешить и сотник из Четатя — Албэ. И тут не сказаны еще заветные нужные слова, хотя глаза Марии поведали, наверно, Тудору все, особенно после памятной ночи татарского налета. Но есть еще дума, удерживающая Боура от решающего шага в замке Леричи. Родному Белгороду нужен зодчий, Тудор нашел его тут. Но великого мастера не посадишь перед собой на гриву лошади, как возлюбленную. Нужен разговор с Зодчим, быть может и не один. И что подумает, что решит юный Мазо, которому Мария заменяет мать, без которого, наверно, не сделает никуда ни шагу?
Думали, замысливая свое, оба воина и друг о друге. После сечи с ночными гостями каждый знал, что может положиться на другого, как на себя, что верить другому можно, как брату, да и к хозяевам, поняли оба, они относятся одинаково. Но все не к слову было открыться. К подобной речи тоже ведь нужен ключ — слово, случай, ни с чего к такой речи не приступить.
Святой муж, преподобный отец Руффино, тоже решил, что настало время для разговора с давно известным ему лицом. Остановившись на круче у песчаного затона под замком, аббат молча созерцал обычную работу Мастера. Вот он, давний враг, по которому, честно говоря, монах изрядно стосковался. Противник, без которого, однажды обретя, не можешь уже обходиться, как без верного друга. Аббат загнал его, наконец, в угол и не упустит на этот раз. Открыться ему? Почему; бы нет? Старому грешнику все равно уже не уйти.
Аббат, не спеша, начал спускаться. Вот он возится, выжив из ума, в песке, — не ваяет кощунственные мраморы, не исследует, дерзкий, сути вещей, не соперничает с творцом. Так и есть, снова женская нагота — полногрудая дьяволица бесстыдно раскинулась у самой воды. Слава Иисусу — не каменная, до утра ее смоют волны.
Мастер тоже видел приближающегося монаха. Тогда, в конце исповеди, мессер Антонио узнал этого человека, причинившего ему в прошлом столько зла. Напрасно, видимо, он, Антонио — венецианец, так далеко бежал от страшной вселенской силы, частицей которой был этот человек в белой сутане. Кочующий монах настиг его и здесь. Мастер хорошо знал главное оружие всемирной злобной силы, которую представлял здесь благообразный божий служитель; это был унижающий, разрушающий достоинство и волю, убивающий душу страх. Антонио не испытывал теперь этого чувства. Теперь он без страха поспорит со своим давним преследователем и врагом.
Аббат подошел к Зодчему, излучая добродушие и смирение. Приветливо улыбнулся.
— Давненько мы, мессере, не видели друг друга, — начал отец Руффино, — Время же, неумолимо бегущее, за эти годы немало, наверно, принесло каждому из нас. Дало ли оно вам, ученый друг мой, понимание самого времени? Раскрыло ли перед вашим разумом собственную сущность?
Мессер Антонио, продолжая трудиться, покачал головой.
— Нет, отец мой, — ответил Мастер с тем же дружелюбием. — Зато показало свою скоротечность.
Аббат уселся на конец выброшенного на берег волнами полусгнившего бревна в готовности слушать.
— Я увидел, продолжал мессер Антонио, — как меняется с годами для человека капля этой неосязаемой реалии. Капля времени для меня раньше была мгновением, потом — минутой, потом — часом, днем, сутками. Сама она в моих глазах оставалась прежней, только все больше вмещалось в ней общих для всех нас временных мер. Сейчас — это неделя, скоро будет месяц, затем и год.! Когда же настанут последние мои мгновения, — усмехнулся Мастер, — вся жизнь, наверно, в представлении моем уместится в последней капле времени, которая упадет — вот так — на моих стекленеющих глазах.