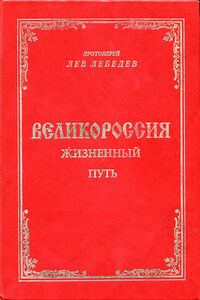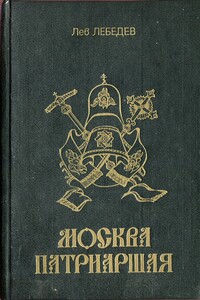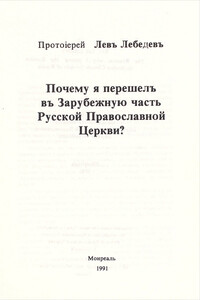Есть еще и требование упразднить «тайные» молитвы священника за Литургией, восходящие к тому же одностороннему пониманию Евхаристии только как самовыражения «народа Божия», где все — «царственное священство»...
Нетрудно видеть, что для подобного рода «литургического творчества» никаких творческих способностей не требуется: это простая ломка и порча Богослужения в угоду профессорским теоретическим идеям, или, хуже того, — в угоду духу міра сего.
В Евангелии Спасителем неоднократно употреблены образы дерева, лозы — для пояснения сущности Церкви, Царства Божия. При подходе к мистическому и историческому (!) пониманию всей символики Церкви и в том числе символики Литургии, правомерно воспользоваться этими же образами. Подобно тому, как из малого семени вырастает дерево, виноградная лоза, из Тайной Вечери Спасителя с учениками и Богослужения первохристианской Церкви росло и выросло дерево церковной символики, ее Богослужения. И как от развитого, зрелого дерева с оформившейся кроной и в основном прекратившего внешний рост, но зато плодоносящего нелепо требовать такого же развития, какое наблюдалось, когда древо было еще ростком и бурно начинало ветвиться, так нелепо требовать такого же бурного развития «литургического творчества» в современной Церкви, какое наблюдалось в эпоху четвертого-пятого веков. То было время роста и формирования. Ныне время бережного сохранения выросшего с тем, чтобы питаться богатыми плодами древа церковной символики (в том числе и прежде всего — литургической). Ибо «всему свое время» (Ек. 3, 1)!...
Зрелое дерево (лоза) уже не меняет основных, существенных форм, и в то же время меняется в деталях (какие-то отростки засыхают, вырастают какие-то новые). За древом церковной символики тоже нужен уход. Но уход заботливый, знающего и любящего садовника, а не безобразника, ломающего и рубящего живое дерево по своей произвольной прихоти.
Таким «садовником» может быть и пастырь Церкви. Но чтобы стать им, священник должен воспринимать Богослужение и всю церковную образность не только теоретически, «научно» — ему необходимо вжиться в Богослужение, духовно ощутить и пережить его силу, глубину премудрости, красоту; почувствовать Боговдохновенность древних канонов в любой области символики и жизни Церкви.
Молодому современному священнику хочется поэтому прежде всего посоветовать не спешить в суждениях о сложившемся веками русском православном богослужении. Какие бы идеи он ни вынес из стен духовных школ, ему следует, отрешившись от всякой предвзятости, сначала в течение длительного времени просто послужить так, как это было принято до него на данном приходе. Это позволит ему непосредственно вжиться, вчувствоваться в Богослужение, а заодно и спокойно оценить, что именно в местных обычаях настолько противоречит духу и смыслу Устава, духовной логике его, что должно быть непременно упразднено, а что можно и оставить, потому что, хотя это сугубо местнопринятое, а не предусмотрено Уставом, но внутренне, по смыслу, ему не противоречит.
Вернемся, однако, к важнейшему в данной нашей теме.
Как мы отметили, центром, или самым главным духовным светилом, вокруг которого вращается вся жизнь современного православного священника, является святая Евхаристия, служение Тайнам Тела и Крови Христовых. Это тот духовный очаг, который сообщает живительное тепло всей жизни пастыря, это источник Божественного пламени и «огня, поядающаго» в самом служителе всякую греховность, вялость, уныние, отчаяние, возжигающего в душе пастыря вновь и вновь огонь веры, надежды, любви к Богу и людям. Божественная Литургия, где совершается это таинство, как ничто другое способна очистить, возродить, утешить, ободрить и наполнить новыми силами душу совершающего ее священника. Служба эта как бы дает пастырю незримые духовные крылья, снабжает его терпением, высветляет и одухотворяет все его человеческое естество, врачует все раны, отгоняет все скорби, удаляет всякую суету из сердца и ума, возносит на неизреченную высоту — к Богу, благодаря чему пастырь оказывается способен возводить ко Господу и души своих прихожан. Если священник с искренней верой и сокрушенным сердцем, то есть с ясным и глубоким знанием своей крайней ничтожности, греховности и недостоинства, совершает Божественную Литургию, припадая ко Господу, как дитя, просящее у Отца прощения за множество своих провинностей и преступлений, — он получает от служения этому таинству такую благодать, переживает порой такие чувства, которые невозможно передать словами человеческого языка!