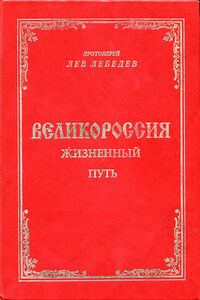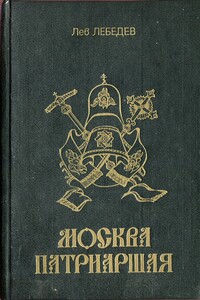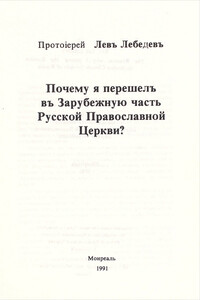Несмотря на кажущуюся «второстепенностъ», эта область жизни может занимать у пастыря практически все свободное от Богослужения время, иной раз лишая его возможности уединенных занятий чтением духовных книг и богомыслием. Поэтому ее никак нельзя игнорировать или полагать чем-то не стоящим внимания. Более того, стихия чисто житейских попечений и «мелочей» может превращаться (и в наши дни нередко превращается) в серьезную силу, противостоящую духовным потребностям жизни. Для благоговейного пастыря здесь образуется сущий крест. Его естественное желание во всем служить Богу, пересекается горизонталью необходимости снисходить к немощам своей жены, детей, родных и близких, необходимостью прервать свой личный духовный подвиг попечением о великом множестве житейских «мелочей». Крест — всегда крест, то есть духовное мучение той или иной степени и меры. И нельзя стремиться к избавлению от него.
Пастырь должен научиться терпеть эти несоответствия и следить за тем, чтобы не уклоняться в крайности. А крайностей здесь, как и всюду, две: или пренебрежение к семье, ее житейским нуждам, и как результат, — обострение или даже развал семейных отношений, или, напротив, черезмерное внимание житейским нуждам и оскудение духовной жизни, обмірщение. И то и другое равно наносят вред не только пастырю и его семье, но и Церкви, поскольку, как мы видели, все личное непременно отражается на общецерковном.
Не случайно апостол Павел (а вслед за ним и каноны Церкви) требует, чтобы одним из условий священства была способность человека руководить своей семьей, воспитывать детей в христианском духе и послушании. Не случайно тот же апостол многократно называет семью «домашней Церковью» (например — Рим. 16, 4; Кол. 5, 15; Филим. 2). Это фундаментальное положение. Оно сохраняет силу во все времена как норматив жизни, к которому нужно всесильно стремиться. Действительно, христианская семья одна из первичных структур Церкви Христовой (двое или трое, собранных во имя Господне), и от того, насколько прочна и духовна будет в общем и целом эта структура, во многом зависит жизнь земного церковного общества и даже окружающего общества мірского.
Но в земной реальности дела не всегда устраиваются в соответствии с требованиями норматива. Недаром у того же апостола Павла втречаем горькое замечание: «Хощу же вас безпечальных быти; не оженивыйся печется о Господних, како угодити Господеви, а оженивыйся печется о мірских, како угодити жене» (I Кор. 7, 32-33). Сравнение этого высказывания с предыдущим дает возможность видеть, что оно не означает роковой и всеобщей неизбежности, а содержит лишь предупреждение о достаточно распространенном в жизни искушении.
В наше время такого рода искушение приобрело особый характер. Женская эмансипация привела к чрезвычайному развитию гордостного и своевольного начала в женщине. Она чувствует себя во многом «независимой» от мужа как в материальном, правовом отношениях, так и в плане «общественного мнения». Во-вторых, в современной действительности усилился соблазн внешнего материального благополучия, воспринимаемого чуть ли не как критерий «нормальной» жизни, в том числе (и особенно) — в среде духовенства. Женщина, поскольку она всегда была «немощнейшим сосудом», оказывается более подверженной данному соблазну, пытаясь склонить к тому же и мужа-священника. В-третьих, нельзя забывать о влиянии и даже давлении атеистических сил и идей на детей священников в школах и учебных заведениях, которое длилось в течение без малого 70-ти последних лет. Нужно вообще принять во внимание положение нашей Русской Церкви в условиях государства, где официоз исповедует атеистическое міровоззрение и где до недавнего времени открыто верующий человек не мог быть полноправным гражданином. Все это — очень серьезные испытания семейной жизни наших пастырей. Не все выходили из этого испытания достойным образом. И если теперь разного рода дискриминация священников и членов их семей в значительной мере прекратилась, то это не значит, что прекратилось совсем влияние атеистически настроенного общества на жизнь православной семьи, в том числе и священнической.