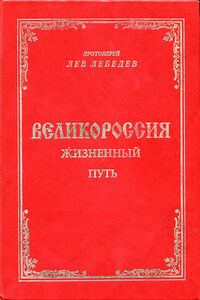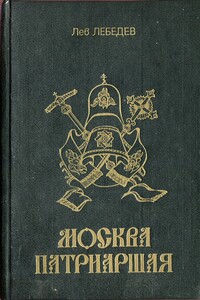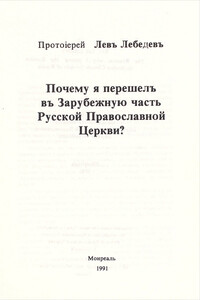Подобное лукавство имеет своим очевидным результатом раскол, распад сознания и жизни человека-священника. Дело неизбежно доходит до того, что лишь в сфере такой «личной жизни» священник и чувствует себя удобно, комфортно, как в «родной стихии». Жизнь церковная становится бременем обязанности, источником средств для жизни «личной». Тогда священство со всеми его внешними и внутренними атрибутами оказывается для человека только маской, которую он вынужден одевать в церковной среде, перед верующими. Семейная жизнь у таких священников как правило «не складывается». Двойную жизнь не понимают и не смогут никогда понять ни дети, наиболее чувствительные к правде и лжи, ни даже жена, которая непременно начнет презирать за такую жизнь своего мужа, хотя поначалу все это может нравиться ей. Но главное в том, что как бы ни «маскировался» такой священник, он сам делает из себя духовно мертвого человека, способного в лучшем случае лишь к совершению служб и треб, но совсем не способного к пастырству, человека, «через которого соблазн приходит» (Мф. 18, 7) и в жизнь Церкви, умерщвляя те живые ростки искренней веры в людях, которая и без того так слаба в наши времена!
Означает ли это, что современный священник должен совсем отгородиться от міра, не смотреть телевизор, не читать газеты, не интересоваться мірской культурой, тенденциями жизни и развития «міра сего»? Конечно, не означает. Все дело в том, зачем и как священник всем этим интересуется. Если для того чтобы выяснить, на какие положительные явления и события мірской жизни и культуры он может опереться в деле пастырского служения, то он уподобляется апостолу Павлу, смотревшему в Афинах различных идолов и использовавших для проповеди «жертвенник неведомому Богу». Священник должен знать и понимать душевные запросы, противоречия, искания людей «міра сего», чтобы тем удобней свидетельствовать им об Истине на понятном для них смысловом «языке». Но при этом самому священнику нельзя пристращаться, прилепляться сердцем ни к одному из соблазнов «міра сего».
Перед міром сим священник всегда должен быть священником! И было бы очень хорошо, если бы он и в міру носил не светский костюм, а подрясник и рясу. Ибо даже в глазах неверующих, но по-своему честных и принципиальных людей, составляющих лучшую часть «міра сего», такое поведение священника вызывает только уважение и поддержку. Это вполне доказано многолетней практикой тех, кто постоянно носил в міру духовные одежды, притом в самые трудные для Церкви периоды современности.
О проблемах отношения современного пастыря к міру мы еще будем говорить в специальной главе, а пока заключим данную главу выводом о том, что цельная духовная личная жизнь священника — залог успеха всей вообще его пастырской деятельности. И если спросить себя, что именно является главшейшим источником духовного света и тепла, которым освещается и согревается вся жизнь и служение священника, то необходимо ответить — живое общение с Богом, чаще всего происходящее в Богослужении, главным образом — в служении Литургии.
Самым ярким светилом, как бы солнцем, освещающим всю жизнь и деятельность священника, является Богослужение и прежде всего — служение Божественной Литургии. Слишком часто, даже в солидных сочинениях по пастырству, в Богослужении подчеркивается его нравственно-назидательная или учительная сторона, так что оно рассматривается чуть ли не как одно из средств «душепопечения», как нечто второстепенное по отношению к пастырскому учительству32.
Если рассматривать все служение священника как руководство верующих людей ко спасению, то оно включает в себя решительно все стороны пастырской жизни, в том числе и Богослужение. И уже никак, конечно, нельзя сводить пастырские задачи только к совершению служб и треб в храме (что иногда, к прискорбию, имеет место). Однако, если в многогранной и многообразной деятельности пастыря попытаться найти главнейший источник духовной силы священника, то таковым окажется служение Божественной Литургии. Нелепо было бы отрицать наличие вероучительной нравственно-назидательной функции Литургии. Эта функция естественна, необходима, и она, в большей или меньшей мере, всегда осуществляется. Но она — не единственная и даже не главная. Литургия (как и все Богослужение) является, по Максиму Исповеднику, Мистагогией, Тайноводством (тайноводительством) ко спасению. В символических словесных, динамических, предметных образах Литургия раскрывает историю спасения человека от сотворения міра через Первое Пришествие Христово до Второго славного Его Пришествия и даже до радости вечного блаженства в Царстве небесном. При этом, по учению отцов Церкви, символизм Литургии реален, то есть он действительно является движением к полному единению со Христом и обожению, которое реально и осуществляется в акте Причащения.