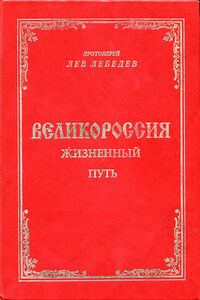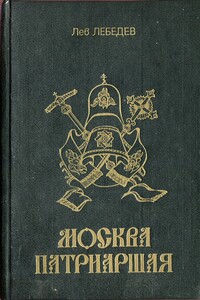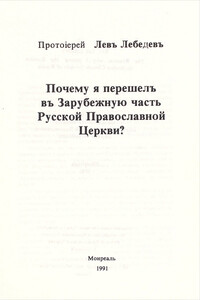Бесчувствие к своему священству может проявляться и в служении человека-священника плотским страстям, в нравственной распущенности. Самооправдание здесь то же самое, что и в состоянии обмірщения. В состоянии распущенности человек-священник понимает, что его поведение слишком одиозно, чтобы можно было рассчитывать на уважение (и большие приношения) прихожан, или на карьеру, и потому тоже не делает из себя «кумира» и тоже принимает это за смирение. Но в этом состоянии, после грехопадений, элемент смирения и в самом деле может присутствовать в душе, однако он слишком слаб, чтобы стать импульсом к решительному возрождению и, напротив, часто используется сознанием как аргумент в пользу продолжения бездуховной жизни.
И обмірщение и нравственная распущенность могут быть определены также, как «закваска саддукейская» (неверие в воскресение мертвых, бессмертие души и ответ за свою жизнь пред Богом), от которой тоже предупреждал Христос своих учеников.
Давно замечено, что, хотя демонические силы все так или иначе внутренне связаны между собой, тем не менее в своих конкретных действиях они выступают как бы определенными парами. Так, демон сребролюбия непосредственно ходит «парочкой» с демоном предательства, демон блуда ведет с собой демона убийства (напрасный гнев, раздражительность, склонность к тяжким оскорблениям других людей), а там где винопитие, там спутники его — уныние и отчаяние.
В некоторых случаях, когда в человеке-священнике еще не угасла совесть, нравственная распущенность может вызывать в нем отвращение и сильное желание избавиться от порочных склонностей. Однако, если его сознание не готово к восприятию крестного сочетания высоты пастырского служения с личным человеческим ничтожеством, то начинаются мучительные «шатания» из одной крайности в другую. От саддукейской распущенности — к фарисейству пастырской гордости, от нее — снова к распущенности.
Обе противоположные крайности, как видим, едины в том, что они суть — следствия неправильного пастырского самосознания и часто обусловлены нарушением канонических правил при рукоположении. Едины они также и в том, что равно приводят священника к немилосердию по отношению к людям и к неверному восприятию Церкви. Церковь в таких случаях воспринимается сознанием только как поприще, где человек может «себя проявить», или как источник доходов и возможностей для разного рода самоугодия (в чем бы оно не состояло, — в душевном или плотском услаждении). Священники, находящиеся в этих состояниях становятся нечувственны к Истине, могут легко улавливаться в любые лжеучения и ереси.
Помочь пастырскому самосознанию может верное догматическое представление о природе священства, согласно которому сообразность Христу и иные дарования подаются священнику даром, не как результат его личных «заслуг», и потому отнюдь не означает подобия Ему. Сообразность священству Господа может и должна лишь побуждать священника к подвигу уподобления Спасителю в святости жизни, налагая на него тем большую ответственность пред Богом и Церковью, чем более человек-священник качественно отличается от остальных членов Церкви. При таком восприятии вещей становится возможным и даже естественным одновременное созерцание пастырем высоты своего священства и глубины своей личной человеческой немощи и греховной поврежденности. Здесь открывается достаточно простора для того спасительного «страха Господня», который есть «начало премудрости», и премудрости пастырского самосознания в том числе. При правильном самовосприятии человек-священник осознает себя священником Христовым не только за Богослужением и «на людях», но и в семье, в личной жизни, наедине с собой, когда его никто не видит. С другой стороны, он чувствует себя грешным человеком и при общении с людьми, и за Богослужением во всем благолепии священных риз, когда являет собой образ, одушевленную икону Христа Спасителя.
Она тоже отмечена знаком Креста, ибо состоит из двух, на первый взгляд, трудно совместимых направлений — потребности личного восхождения к Богу путем духовного совершенствования (вертикаль) и необходимость служить людям со всеми их не только духовными, но и житейскими попечениями, что явно «отрывает» от личного подвига (горизонталь). Но именно в страдании на этом «кресте» и рождается подлинное православное пастырство. Если же «убегать» от такого креста, то и здесь можно впасть в крайности или небрежения о людях и их нуждах, или небрежения о личном подвиге в угоду чрезмерному попечению о других. Прежде всего все это относится к семье священника, если он женат, или к окружающим братиям, если он подвизается в монастырской обстановке, в иноческом чине. Монашеское житие — особая область, в которой мы не можем быть компетентны, так как не принадлежим к ней. Поэтому тема нашего разговора по необходимости будет ограничена заметками о жизни женатого приходского священника.