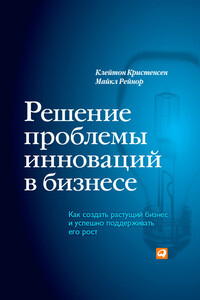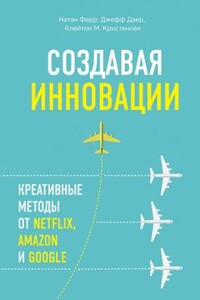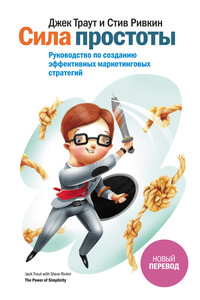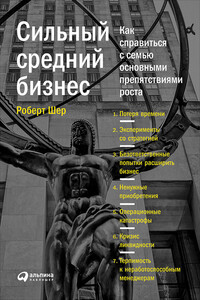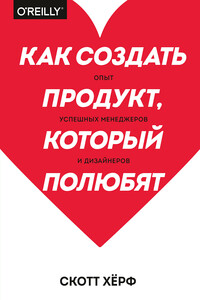Можно ли считать теорию работ теорией?
Для многих читателей слово «теория» подразумевает ряд уравнений или формулу, которые описывают, как независимые переменные или факторы влияют на результат. По большей части структура исследования, на основании которого выводится теория, отличалась дедуктивным характером. Исследования в подобной области начинаются с ключевого предположения о причинной связи, после чего переходят к сбору данных или явлений, подтверждающих (или опровергающих) ключевое предположение.
Другие теории выводятся посредством индуктивных исследований. Проводящие их ученые начинают без предположения о причинной связи. Вместо этого они тщательно изучают явления и данные о них. Затем шаг за шагом формулируют предположение касательно того, что вызывает те или иные явления и почему.
Теория необходимых для выполнения работ выстраивалась индуктивным путем. В силу частых случаев неудачных инноваций я не мог начинать с ключевого предположения о причинной связи в успешной инновации, которое можно было бы протестировать дедуктивно. И поэтому два десятилетия я внимательно и индуктивно наблюдал, что пытаются делать люди, покупающие и продающие различные продукты, и пытался отыскать ответы на вопрос «почему?».
Ключевая цель при индуктивном выведении теории – разработать одну или несколько концепций. Они редко поддаются наблюдению. Концепции, скорее, представляют собой абстракцию – довольно часто это образ, помогающий наблюдателям распознать, как явления взаимодействуют друг с другом и со временем меняют друг друга. Учитывая, что корреляции раскрывают статистические связи между явлениями, концепция служит мостиком, который подводит нас к динамике причинности.
В химии, к примеру, зрительные образы (концепции) химических соединений Огюста Лорана (1807–1853) позволили ему объяснить, как образуются соединения и как они преобразуются в другие соединения. В экономике концепция «невидимой руки» Адама Смита (1776) помогла объяснить функционирование свободных рынков. Выражаясь метафорически, невидимая рука перемещает капитал и рабочую силу в сферы, обеспечивающие процветание, и забирает ресурсы у предприятия, которое напрасно их расходует. Она разъяснила миллиардам людей, чем правильно реализованный капитализм помогает человечеству. В теории подрыва секрет определения сущности подрыва кроется в визуализации путей взаимодействия технологического прогресса и рыночных потребностей.
К чему это отступление на тему роли концепций в теориях? Термин «работа» – это концепция. Он идеально соответствует определению концепции и ее роли в теории необходимых для выполнения работ. Понимание работ как концепций включало точное определение терминов, которые мне были нужны для описания увиденного. Термины «нанимать» и «увольнять», к примеру, не просто остроумные словечки. Они помогли мне визуализировать реальное функционирование процессов покупки и продажи.
Кто-то из читателей, возможно, примется критиковать книгу, так как реальные истории о реальных людях в реальных компаниях не относятся к данным, которыми можно оперировать в таблицах. Такое отношение неверно переносится на формирование хорошей теории. Когда вы видите числовые данные, помните, они были созданы людьми: отдельными лицами или группами людей, которые решают, какие элементы явления включить в опубликованные данные, а какие отбросить за ненадобностью. Следовательно, данные отражают предвзятость. Прекрасная книга Томаса Джонсона и Роберта Каплана «Утерянная актуальность» (Relevance Lost)[49] показывает, какая сложная история таится за каждым числом. Эти истории сокрыты, когда их разбирают и превращают в числа. Рассказываемые истории богаты данными. Правильные обстоятельства порождают глубокие мысли. Числа, вычленяемые из историй, предлагают мысли поверхностные, зато широкие.
По указанным причинам мы уверены в том, что «теория работ» оправданно получила свое название.