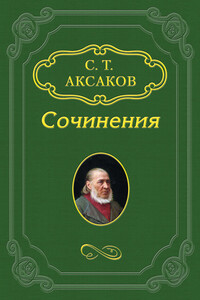Вопрос о количестве всплывает и по другим, менее предсказуемым поводам, когда мы рассуждаем об идентичности и роли университетов. Например, если изучение определенного аспекта человеческого или природного мира и написание соответствующих работ – это такое интересное занятие, почему же не привлечь к нему всех и каждого? Очевидная непрактичность такого подхода в настоящее время не лишает его эвристической ценности, не превращает в неудобный вопрос для тех, кто отстаивает дело университета. Если защищаемые нами вещи настолько ценны и важны, как мы говорим, почему бы нам не захотеть, чтобы их изучали все? Возможно, в некоторых обстоятельствах мы и в самом деле хотели бы этого – я не вижу оснований для планирования доли населения, занятой такими исследованиями, и, уж конечно, не вижу оправдания для того, чтобы в качестве целевого показателя задавать 50 % людей с высшим образованием, хотя именно такую цель поставило правительство Блэра. В Докладе Роббинса 1963 г. указывалось, что высшее образование должно быть доступно любому человеку с «потенциалом», позволяющим извлечь из него выгоду, и предполагалось, что доля людей с высшим образованием будет больше 10 % возрастной когорты, способной учиться в университете, однако наверняка не сильно больше, и уж точно не считалось, что она будет постоянно расти. На практике британское государство обычно поручает школьным экзаменационным комиссиям и приемным комиссиям университетов определять кандидатов на получение высшего образования; время от времени, когда спрос на квалифицированных кандидатов превышает количество мест в университетах, принимается политическое решение увеличить последнее. Нет волшебной формулы, которую можно было бы использовать всегда и в любых обстоятельствах. Число университетских студентов определяется не чистым спросом и не министерским указом, а сочетанием случая, традиций, возможностей, способностей, ресурсов и т. п. Вполне вероятно, в следующем поколении или ближайшем будущем это число значительно увеличится, но нельзя сказать заранее, когда будет достигнут потолок (тех, у кого есть соответствующий потенциал). По этим, но не только этим, причинам наше представление о том, зачем нужны университеты, хотя оно и должно отвечать на изменения, вызванные количественным ростом, должно в то же время соответствовать их миссии независимо от того, какая доля населения получает высшее образование. Правильной концепции университета незачем бояться расширения; как раз наоборот, она может его только приветствовать.
В то же время в спорах о числах могут скрываться и некоторые трудности другого толка. Например, даже если можно доказать, что определенная академическая или научная деятельность важна сама по себе или как существенная часть более общей образовательной или исследовательской программы, существуют ли какие-либо средства, которые бы позволили определить, сколько именно людей должны ею заниматься? Собственно, примерно в таком же смысле можно было бы спросить, сколько высококлассных гобоистов нужно обществу. Как можно решить, сколько должно быть специалистов по ассирийской археологии? Ответ: «Столько, сколько сможет выдержать рынок» – был бы просто глупым или злонамеренным. В таких делах нет настоящего рынка: так называемый рынок на практике является общей системой договоренностей (как правило, добровольных), которая периодически перенастраивается, когда возникает то или иное недовольство актуальными условиями. Есть необходимость в инвестициях в культурное будущее, а также педагогическая задача – заставить определенные слои общества признать эту необходимость, и данную задачу рынок просто не в состоянии решить. Но не может быть общей формулы, определяющей, сколько этих разных специалистов должно быть у общества, если не ограничиваться необходимым для сохранения и передачи самой профессии минимумом. Возможно, в Британии сегодня заметно меньше специалистов по древнегреческой литературе (или просто людей с достаточно хорошим греческим, которые могли бы заняться изучением текстов в подлиннике), чем в 1900 или даже 1950 г. Такое сокращение объяснимо, и, по всей вероятности, в нем нет ничего плохого; в любом случае, оно стало результатом значительных социальных изменений, а не просто принятого в системе образования постановления. Однако вопрос в том, какие