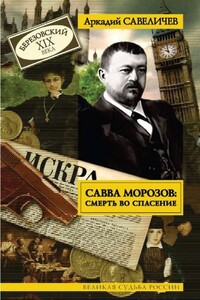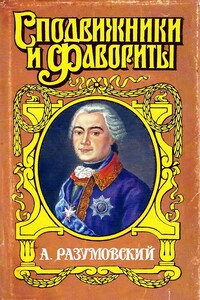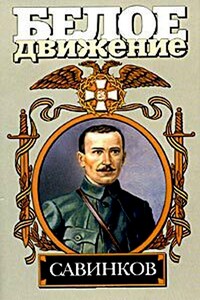Но и наособицу жить в этом домашнем содоме было непросто. Только приладилась было тут же на шестке попробовать еще плохо уваренную курицу, только разорвала нетерпеливыми зубами первый кусок, как с печи по раструбу потянулись к ней две лохматые встревоженные головы. Она отгородилась от них спиной, плечами, густым негодующим затылком, почти взлезла локтями на шесток. Здесь вот она, выкусите-ка! Истосковавшиеся зубы хряпали над остывающими углями таганка, а с другого боку — новая голова насунулась. Уже и не глядя в сторону Юрася-карася, она отмахнулась от него враз отяжелевшей рукой, оттолкнула прочь. Захрупали куриные косточки, заскрипело на зубах. Она плыла в жарком пахучем тумане, она мстила всем и вся. Было ей хорошо до остервенения. Но где-то хлопнула дверь, прошлепали валенки, из-за угла печки новая голова показалась, прямо в дымной морозной шапке. Неужели еще и этого принесло, школяра? Уже не гнев, а смех разбирал ее. Налетели, повылетали, как воробьи! Так нет же, не на трусит она, не будет поклевки. Сама станет воронихой, сама расклюет, раздолбает всякого, кто сунется под ее клюв!
В упоении, в сытой истоме лежала она локтями на горячем шестке, опасливо и настороженно отгородившись спиной от всего белого света. Перед глазами зияла черная задымленная дыра — вот и все. И больше ничего. Больше ничего и не надо. Жизнь представала теперь хоть такой же чернющей, как та дыра, но теплой, сытной. Как она ловко наступила на хвост оголодавшей судьбе — только и пискнула судьба голосом нерасторопной курицы. Жить-то все хотят, но не все выживают. Видела она в промокших тихвинских скверах, в разных вокзальных катухах, на разных лестницах и приступках людские скрюченные тени; все больше бабы, все больше молодые и красивые, вырвавшиеся из ленинградского ада и попавшие в новый ад. Она же не очень молода и не очень красива, но кто скажет, что дура? Во всяком случае, успела поумнеть с того дня, как под чужое перекосившееся надгробие сунула своего истаявшего дитенка. Теперь бы она поступила иначе. Теперь бы, воскресни он, встань из-под безымянного камня, у первого встречного солдата вырвала бы законную пайку. Женщине дано жить, женщине не дано умирать самой и морить своих детишек. Умри она, откуда возьмутся на земле мужики?
Только подвела скупой оправдательный итог, как новый стук двери, новые шаги на кухню — тяжелые, хозяйские. Домна! Она явилась нежданно, не на седьмой, а на шестой день, и отвернула ее плечи, заглянула под руки:
— А я-то еще с улицы слышу: курочкой попахивает. А я-то дивуюсь: с чего бы это праздник?
— С того! С этого самого! — перед ней уже не могла отгораживаться плечами.
— Хороша хозяюшка. Всех напоила-накормила, всех палкой огладила.
— Всех, сестрица, всех, кроме тебя.
— Ну, меня-то как сказать… У меня жалости не осталось. Нельзя мне с жалостью валандаться.
— А мне можно? Я таковская?
— Ты таковская, верно. Ты, Лутонька, уходи из нашего дома.
Домна словно испугалась своего решительного тона, присела тут же на табуретку. Ей явно поговорить хотелось. Но в это время кто-то из ребят открыл дверь, и в избу, прямо на кухню, вбежал Балабон с ощипанной курицей в зубах.
— Так, еще одна душа загубленная… Всех передушила иль нет? — опять встав, развернула Домна ее лицом к свету.
— Двух только, двух! — И ей прямо в лицо выкрикнула: — Больше под руки не попалось.
— Да куда уж больше. В самый раз. Душегубка ты несчастная… Убирайся. Чтоб не чадило, не дымило.
Уходить от тепла, от пахучего шестка не хотелось. Но и отповеди сестры она снести не могла. Накормленное, ожившее тело требовало бунта. Так вот же — не будет младшая плясать под дудочку старшей!
— И уйду, — решила она. — Да хоть бы и к Барбушихе. Ты ее не любишь, а я возьму и пойду!
Ждала она, что ее остановят и что она впервые в жизни поплачет. Но никто не остановил, никто не окликнул. Так и ушла, волоча по заснеженной тропке вместе с дорожным мешком тяжелую, вязкую обиду. Осталась позади ее глубоко пропаханная борозда. Будто плугом провела, отвалила себя на сторону…
6
Пять дней спустя дали им опять в лесу выходной. Самусеев сказал, что ничего, отгрузка бревен на станции пойдет своим чередом: назапасали, спасибо им, женщинам. Да и не одни избишинцы пилили, весь прирельсовый район поднялся. От скрипа саней на станции было хоть уши затыкай. Ребята-возчики, возвращаясь порожняком на деляну, подпрыгивали от зависти: у-у, народу сколько… у-у, солдат-то сколько едет… у-у, трактора вместо плугов пушки тянут!.. Даже сюда, за версту, заносило гул тревожной, как бы раскаленной дороги. Будто в громадной трубе гудело: гу-у… гу-у… гу-у… Где-то топилась жаркая адская печь и такую нагнетала тягу, что все, казалось Домне, уносило в прорву-трубу, — и горевые женские сосенки, и горе баб, и их мужиков, и сами поезда. Они выли, разгораясь в общей топке, денно и нощно, они исходили пеплом и гарью. Когда задувал с той стороны ветер, черная посолонь опадала на белый снег. Не видывал никто раньше такого снегу, даже если печи сырой осиной топились. А теперь вот своими глазами видели и замирали перед могуществом адского печника: для чего такая печь, такая тяга?.. Ведь унесет, все живое утащит вместе с лесом и избами. К лешему печника-дурака, к водяному, лесному и болотному!