— Это ты о моей гармошке, Калина?
— О башке твоей, не о гармошке! — постучал Калина его по макушке тяжелым, истинно мужским кулаком.
— А, о башке… Не жалуюсь, башковит я. Только ты полегче кулаком-то. Хоть и бригадир я, начальство, а кулаки почесать тоже могу.
— Бригадир! Когда ты был бригадиром-то? Вспомни.
Кузьма послушно вспоминал. Но все к тому и сводилось, что он уже целую смену белья вылежал здесь, стало быть, дней десять не бывал дома. Прямо беда! Колхозный бригадир десять дней прохлаждается в санатории, а там, поди, и обмолот не закончили. Да и как они могли без него закончить? Риги еще попалят, хлеб пожгут. А то и перепьются. Ой, глаз да глаз нужен…
— Калина, а ведь мне пора.
— Вот я и говорю: пушки тебе таскать пора, стоеросовый.
— Не хочу я пушки таскать. Она вон целую ночь бахала, а на ней Тонька верхом скакала.
— Какая еще Тонька, Ряжин?
— Лутонька, известно. На пушке верхом приезжает, а сама голая как есть.
— Ну, Ряжин! — совсем взбеленился Калина. — Стрелять тебя надо, а тебе медали дают. За что только? Когда дрова поколешь, так почисти себя, начальство твое приехало.
Никакого начальства, кроме уполномоченного Спирьки Спирина, Кузьма припомнить не мог. Было ему удивительно, что Спирин сам приехал. Со Спириным у него шла какая-то давняя тяжба. Спирин собирался что-то такое утворить с деревней, а он матерился почем зря. Поколотить Спирина — дело плевое, да ведь Спирин начальство, а как колотить начальство? Никак нельзя, всегда ему говорили. Он только еще маленько поматерился и стал спешно доделывать свое дело. Сосновые чурбашки так и свистели у него под колуном, так и брызгали поленья на стороны, как сухой лед. Он накрошил-наломал целую кучу и крошил бы еще, да Калина крикнул с крыльца:
— Ряжин, давай завтракать, чиститься — да за медалью!
Ну, за медалью так за медалью. Тут, конечно, надо поевши. Тут и за столом посидеть не грех. Только что это за застолье? Все как после драки, как после Кузьмина дня. Все битые-перебитые, все вязаные-перевязанные. Известно, после драки чумные. Лица позаволакивало кровавыми повязками, цигарки смалят, матерятся и стонут. А чего стонать? Раз уж на Кузьмин день дали туза, так лежи да помалкивай. А тут кто лежит, кто ползет, кто на костылях кулдыбает, кто кашу ест, кто песни поет. Смешная у них санатория! Кузьма умылся возле нужника ледяной водой, почистил, как и велел Калина, полосатый детский костюмишко и спросил каши — всегда на завтрак была овсяная каша. Но сегодня ему дали рисовой, дали к тому же кусок селедки, из чего он сделал вывод, что к медали в обязательном порядке полагается селедка. От нее, закуски бражной, такой аппетит нагнал, что попросил добавки. Ему поварихи и добавки дали, прибавив, правда, слова: «Мы без мужиков извелись, а тебя задарма корми да корми, идол!»
Он мало обращал внимания на ворчание, которое доходило как сквозь ватное одеяло. Он кашу уплел и уже сам стал поторапливать:
— Ну, где тут медали дают? Некогда мне с вами валандаться. Снег вон не чищен, воды не наношено.
Мужики, злые, верно, еще после Кузьмина дня, трясли закровавленными повязками, тузили его в бока:
— Да успокоишься ты, Ряжин! Надоел ты, Ряжин! Найди себе хоть какое-нибудь дело!
Он собирал грязную посуду, таскал помойные ведра, все быстро, все набегом, и опять, конечно, обхвостался. Наскочивший на него Калина даже закричал на всю больницу:
— Да переоденьте вы его! Не вести его в таком виде!..
Кузьму опять переодели, теперь уже в гимнастерку, причесали и повели в самую большую палату, куда сошлись, сползлись покалеченные в драке мужики. К нему сейчас же подошел какой-то бравый военный и начал обнимать, все спрашивая:
— Жив? Еле тебя разыскал, Ряжин. Дай я тебя поцелую… Жив ведь, кажется?..
— Живой, чего мне сделается, — отвечал он, отстраняясь. — Чего кричать-то.
— От радости, Ряжин. Хоть один мой солдат в наличности… Слышишь ты меня? Все наши под Тихвином так и полегли…
— Под Тихвином? А чего их занесло под Тихвин? Шли бы драться в Вереть или в Мяксу, раз уж загуляли.
— Ну, Ряжин, ну, обалдуй ты! Дай я за глупость твою еще раз тебя поцелую!





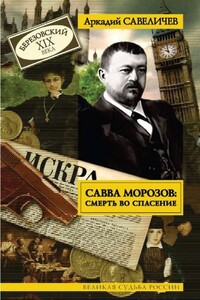
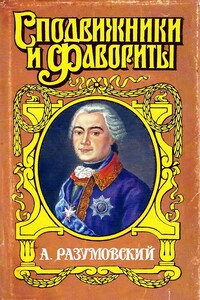
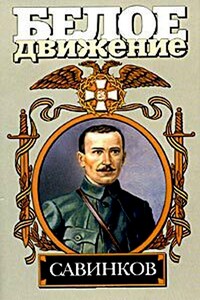


![Когда-то я скотину пас [сборник]](/uploads/books/images/c4/c4802de943fb89a35fb009b37289c29088cb308b.jpg)
