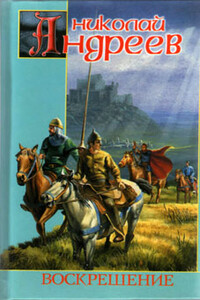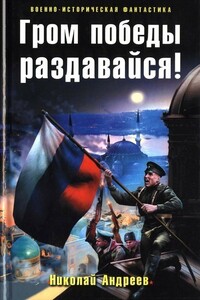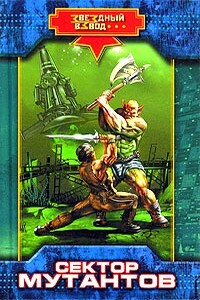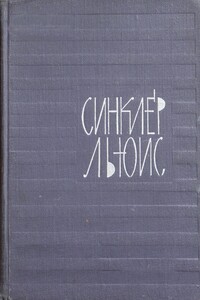— Вы готовы, барон, к этому? — В глазах Николая все-таки зажглась надежда. Маннергейм говорил так уверенно, так дерзновенно, что императору вспомнилась буря, вызванная речью Петра Аркадьевича… Правда, сам Николай тогда не слышал ее «из первых уст», ему лишь рассказывали…
Длинный зал Дворянского собрания: именно сюда перенесли заседание Государственной Думы после обрушения потолка в Таврическом дворце.
Облокотившись обеими руками с зажатой в них декларацией на кафедру, Столыпин рассказывал о том, как видит будущее России, что нужно для ее изменения. Спокойный, уверенный, тихий голос. Петр Аркадьевич разговаривал с думцами, будто с давними приятелями…
Чего ему стоило это спокойствие, спросите? А какую цену вы сами заплатили бы за то, чтобы спокойно смотреть на людей, выдвинутых в Думу зверями, что устроили взрыв его дома на Аптекарском острове? Теми же людьми, что угробили сотни простых россиян, желая добраться до чиновников, Великих князей… Теми же людьми, из-за которых дочка Столыпина стала инвалидом…
И ответом Столыпину были — потоки грязи, выливаемой на него «левыми». Море ругани, в котором редкими островками виднелись немногочисленные «правые». А ругань и брань все лилась и лилась, красноречие с червоточинкой не знало предела…
Не знало — но узнало.
Петр Аркадьевич снова взошел на кафедру. Взглянул на четерхсотголовую гидру… И после нескольких коротких, холодных, как лед, фраз он бросил вызов революции:
— Не запугаете!!!
Кто сейчас смог бы так сказать?..
— Да, Ваше Величество, мое сердце велит мне служить вам так, как это будет наилучше всего! — В голосе Маннергейма пробился «германский» акцент от волнения, да и фразу он построил с нарушениями правил русского языка. Но Николай даже не заметил этого. Наконец-то император почувствовал, что хоть кто-то готов действовать в атмосфере всеобщей апатии и фатализма…
Николай Николаевич Романов с раннего утра был сам не свой. Ему снова предложили подумать над тем, хочет ли он в случае беспорядков в столице принять «экстраординарные полномочия». Это, конечно, было очень заманчиво. К тому же предлагали «друзья» из лож. Николай еще в пятнадцатом году мог получить в свои руки власть, тени все сгущались над его племянником, министры вот-вот должны были начать активные шаги… И племяша сместил его с поста Главковерха! Ники был совсем не дурак, он чувствовал, что трон под ним начинает шататься. И вдруг — Николай сам становится во главе армии. Раздаются крики «либеральной общественности», звучавшие все громче и истеричней, в защиту смещенного Главковерха, при котором русская армия начала великое отступление… Но прошло время — прошло и возмущение. Во всяком случае, «общественность» примолкла. И вот вновь предлагает Николаю Николаевичу повторить неудавшуюся попытку. Заманчиво, очень заманчиво. Но нужно подумать, все так неопределенно, нужно время, нужна уверенность в том, что Ники не выкинет что-нибудь этакое, как полтора года назад. Нужно решить, нужно больше информации. Да и поточней должны быть предложения.
А Николай Николаевич Юденич смотрел на метания Великого князя, смотрел — и вспоминал строки письма Кирилла Владимировича. Очень многое, что он там написал, уже сбылось. Конечно, это и не могло значить, что и остальное исполнится «как по нотам» — но с тем же успехом предсказанные Кириллом события могли сбыться. Юденич в самом деле не знал, как же ему поступить, если «буря» придет…
Александр Васильевич Колчак только что вернулся в свою каюту из казарм частей, что должны были участвовать в Босфорской операции. Затем разузнал о состоянии четырех запасных полков в Одессе. Правда, они были невероятно раздуты: в ротах по две-три тысячи человек и всего двадцать-тридцать младших офицеров. Большинство из них было командировано как знающих турецкий язык, во множестве собрали армян. Остальным же приходилось учить азы языка, грамматику, что было все-таки сложновато.
Адмирал сел за книгу об истории Турции — и практически сразу закрыл ее. Мысли метались, возвращаясь то к Босфорскому десанту, то в Зунгулаки, то к письмам Кирилла Владимировича, то к слухам из Петрограда. В столице люди ожидали революции, ожидали — и ничего не хотели предпринимать. Да, нынешний режим вряд ли заслуживал всенародной поддержки, но все-таки офицеры и солдаты дали присягу! Почему они только ждут, но ничего не делают? Это же измена, измена присяге! Вопить о революции и ничего не делать при этом — это настоящая измена! Как если бы хирург, стоя над больным, говорил, что сложный случай, что пациенту нужна операция, что вот-вот начнется заражение… Говорил бы и говорил, но не шелохнулся бы, чтобы эту «необходимую операцию» провести…