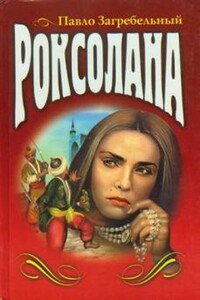Мирошка её успокаивал, неуверенно улыбаясь:
- Авось ничего!
А Любава - на всякий случай - шёпотом заклинала дождик, ручьи и реки:
- Вода, наша матушка! Омываешь ты круты берега, жёлты пески, бел-горюч камень своей быстриной, золотой струёй. Ан, всё у нас чисто, давно всё ладно! Иди ты от нас на закат вечернего солнца: там ждут тебя сорные тропы, тонучие грязи, зыбучие болота, немытый тын… Однако заклятье не помогало.
Ночевать приходилось под деревьями и чаще всего без огня: Страшко сушил трут и огниво под мышкой, но искра не высекалась.
Перед тем как лечь на сырую хвою, предусмотрительная Любава и тут, разыскав осиновый ровный сучок, на всякий случай обводила вокруг ночлежного дерева непрерывную линию. Она верила, что эта линия, сделанная сучком, не позволит «нечистой силе» ночью подкрасться к спящим. Правда, бесы могли вместе с каплями прыгнуть сверху…
- Ну что же тут делать, - вздыхая, жаловалась Любава, - когда весь мир ими полон, как печь полна дымом? Добро, хоть в живых оставят. А то затрясут лихорадкой и выбьют из тела душу…
Лёжа ночью где-нибудь на опушке под елью, надёжнее других деревьев защищающей от дождя, Страшко задумчиво говорил:
- И снова скажу: теперь одно у всех нас спасенье - идти на Суздаль. Мне сын Никишка не раз говорил: там тихо да сытно. Там и работа для всякой умелой руки найдётся, и ратей вражеских нет…
Не упуская случая упрекнуть Мирошку за то, что тот пристал к ватаге Сыча, он вразумительно добавлял:
- Разбоем не проживёшь… трудить себя надо!
- Да я, поверь, не разбоил! - обидчиво отзывался Мирошка. - Чего пристал? Я, чай, тебе говорил, что попал в ватагу случайно…
- Молчи. Дорога таких известна. А я говорю, что разбой от голода и от беса не спрячет. Он и сердцу добра не даст: идут по дорогам люди наги да босы, краюхи хлеба в котомке нет, а ты их совсем до гола босуешь. Ан, чем ты от них поживишься? Ну?
- Так я же и говорю…
- Ничем от таких нельзя поживиться! - сурово перебивал Мирошку кузнец. - Вот потому и осталось - идти на Суздаль. Дед мой был родом оттуда. Я, помню, отроком слышал: дед отцу не раз хвалил те места! Туда всё рвался. Ан, князь Мономах, а потом князь Юрий туда его не пускали: в Городце был им нужен. Так и погиб дед в сече, домой из похода на половцев не вернулся. А я возрос у отца в Городце. Там бабу себе нашёл, детьми обзавёлся и старым стал… Ишь борода крепка! Ан в горе каком нет-нет, а про Суздаль, бывало, вспомню: «вернуться бы мне в отцовы места». Страшко с улыбкой закончил:
- Добром не пришлось, возвращаюсь неволей!
- А мне, кроме мамы да деда с Ивашкой, ещё городцовского домового жаль! - простодушно вступила в чужой разговор Любава.
Она повернула своё миловидное лицо к Мирошке.
- Уж больно у нас в Городце домовой был славен! Ты помнишь, братеня, - спросила она уже дремлющего Ермилку, - каков он был сноровист да заботлив?..
Не открывая глаз, Ермилка с трудом ответил:
- Я помню… - и сразу же погрузился в сон.
- Такого теперь не сыщем… Ох, ловок был старый! - восторженно продолжала Любава, опять обращаясь к Мирошке. - Хлопотун такой да заботник. Всегда подсоблял в работе. Бывало, к ночи чего не успеешь, он всё доделает. Заворчит, застучит в избе, а доделает! Утром проснёшься - в красной рубахе, босой, косматый…
Она побожилась:
- Сама видала, хоть окрещусь! А уж как добр был… Если чему суждено случиться - так обязательно знаменье даст. Помнишь ли, братец… Ты спишь? Ну, батя, ты помнишь, как он тебя в бок толкнул, когда ты в ту полночь спал, а воры залезли в клеть?
Страшко покосился на дочь, хотел рассердиться на глупую болтовню, но вместо этого с интересом ответил:
- Ну, это я помню!
- А помнишь, когда к нам повадилась ведьма доить по ночам корову, он даже с ведьмой подрался?
- Вестимо, и это помню!
- Ох, славный был дедка! Найдём ли теперь такого?
Любава истово закрестилась, потом счастливо вздохнула, уютно свернулась калачиком рядом с Ермилкой - близко к Мирошке - и закрыла глаза. Сонным голосом она протянула:
- Скорей бы дойти до места… Мирошка беспечно сказал:
- Дойдём!
- И пищу добудем?
- Ну да!
- Ух, сытно поесть охота…