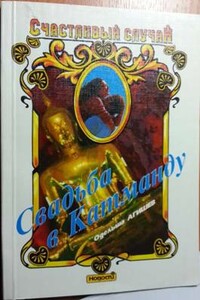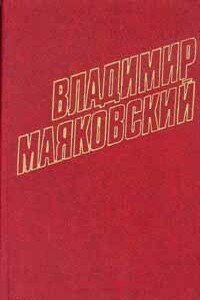Помолчали.
— Она ничего не передала мне?
— Она просто не успела. Они схватили ее и увезли. Она только шепнула мне: «Спаси его!». И все. Вот я решила…
Машинально, почти не слушая, он достал золотой, протянул ей:
— Спасибо тебе.
Она увидела деньги и даже отшатнулась.
— Вы ученый человек, господин Хусейн. Вам стыдно унижать рабыню, — с тихим достоинством сказала она. — Разве я делаю это ради денег?
— Прости. Я не хотел обидеть. — Он мучительно, безвыходно думал совсем о другом, и она поняла это, смягчилась.
— Бог поможет вам, — сказала она убежденно. — Он же видит, сколько добра вы делаете людям. — Он молчал, опустив голову. Она тревожно оглянулась. — Если я что-то узнаю о моей госпоже, я найду вас. Прощайте.
И он остался один.
Нет, он не рыдал и не грыз землю. Он долго, до самой ночи стоял на берегу, под старым талом. Просто стоял застыв. Никуда не смотрел и ни о чем не думал. Потом, сам не заметив как, сел на землю, уткнул голову в колени.
И было тихо. Только сердце било глухо, тяжко, больно.
Отец умер глухой ночью.
Он умирал мучительно. Последний приступ крутил, ломал, душил это усталое, слабое тело беспощадно и жутко.
Отец весь вытянулся, приподнялся над постелью, будто что-то влекло, тянуло его вверх и только хрипел:
— Хусейн… Хусейн… Хусейн…
— Терпите! Ну… Чуточку… Еще! — умолял Хусейн, одной рукой массируя затихающее отцовское сердце, а другой подавая пиалу с настоем. — Еще чуть-чуть!.. Сейчас пройдет! Глотните.
Настой, уже бесполезный, не входил в тело отца. Он струился по подбородку, шее.
— Терпите… отец… чуть-чуть… еще немного. — Взмокший от напряжения Хусейн все продолжал массаж сердца, боясь остановиться.
— Папа! — отчаянно вскрикнул подошедший сзади Махмуд, грохнула пиала, выпавшая из его рук, и он, закрыв лицо руками, выбежал из комнаты.
Хусейн остановился и опустил руки.
Несколько бесконечных секунд он смотрел в лицо отца. В соседних комнатах, по всему дому уже поднималась волна горя: крики, топот ног, стук дверей, надрывный плач.
Хусейн закрыл отцу глаза.
В комнату вошли и обступили тело домочадцы и соседи, Хусейн поднялся и отошел к окну.
Он стоял, гляди в глухую, бездонную тьму азиатской ночи, и лицо у него было горящее, напряженное, будто он собирался сделать сейчас что-то решительное.
Внезапный ветер колыхнул ветки за окном, тронул стену, крышу, будто кто-то прошел. Зашевелилась мгла, зашелестела, дохнуло леденящим холодом.
— Я ненавижу тебя, слышишь? — произнес Хусейн, глядя в эту тьму. — Ненавижу. Ненавижу. Всем разумом… всей волей… всем телом… ненавижу тебя.
В комнате поднимался вой, сначала тихий, потом нарастающий, хватающий за сердце.
— Берегись. Я не остановлюсь ни перед чем… не пощажу ничего заветного… ничего святого, чтобы уничтожить тебя… Берегись.
Задыхающийся от плача Махмуд ткнулся в его плечо. Хусейн обнял брата.
— С кем?.. — всхлипывал Махмуд. — С кем ты говоришь?
— С ней… Со смертью. — Махмуд отшатнулся. — И с мраком жизни.
Месяц зу-ль-каада 388-го года хиджры.
Хранителем библиотеки Саманидов оказался поэт Имаро, тот самый статный, темноглазый юноша, который читал на пиру первое четверостишие.
Он встретил Хусейна дружеским поклоном.
— Я сердечно рад вам, дорогой Хусейн, и приношу самые искренние соболезнования по поводу потери отца.
Помолчали и двинулись по галерее, опоясывающей светлое, с затейливым изразцовым узором, здание хранилища.
Стражи посторонились, и они вошли в здание.
— Итак, вот наша библиотека.
Длинная анфилада комнат и залов открылась перед Хусейном. Стены были украшены орнаментами, потолки расписаны, полы устланы коврами, но самое главное для Хусейна заключалось в тяжелых сундуках, окованных узорными медными скрепами и установленных вдоль стен в каждой комнате. В них и в высоких настенных шкафах, закрытых от пыли расшитыми полотнищами, хранились книги.
— Сколько книг! — вырвалось у Хусейна.
— Да, — улыбнулся Имаро. — За какие-то двести лет здесь удалось собрать ноты все, что написано за тысячу. Думаю, сейчас такие хранилища могут быть лишь в Багдаде и Дели.
Анфилада продолжалась. В одном из залов стояли невысокие круглые столы.