За окном светло и тихо. Даже в городе после снегопада наступает тишина. Конечно, не такая, как в поселке у бабушки. Там заборы зимой становятся низкими. И след кошки цепочкой тянется к забору и продолжается уже на улице. И тень от стога лежит на снегу в лунную ночь, и, выбившись, шевелятся с боков пряди сухого сена.
Я опять беру „Литературные портреты“ и пытаюсь читать. „…Из-за своей любви безразличный к окружающему и находящий в нем очарование чего-то такого, что, не составляя больше цели нашего волеустремления, видится нам само по себе, — является символом воплощенного художника, того совершенного зеркала…“
Я перечитываю эту фразу опять и опять и никак не могу с нее сдвинуться. И не могу понять, что тут кроется, хотя мне кажется, тут кроется что-то очень важное…
Никто мне сейчас так не нужен, как Юлька!
И Юлька появляется. Она приходит на другой день. Как всегда, неожиданно. Она входит и загадочно улыбается, ожидая бурного восторга. И я выдаю ей бурный восторг и тащу ее в кухню. Я вытаскиваю из холодильника все, что осталось от обеда, и мы пируем вдвоем, — Юлька не любит есть в одиночестве, и мне приходится обедать второй раз.
Я люблю ее угощать. Юлька ест и нахваливает:
— Ценный борщ! Ловкие огурчики! „Ценно“, „ловко“ — это ее словечки.
Мы шумим и хохочем. А потом мы гасим свет и зажигаем свечку. Наступает время тихих разговоров. Юлька умеет быть громкой и тихой. Как тетя Варя…
Нам никто не мешает. Потрескивает, разгораясь, свеча. Я ни о чем не спрашиваю. Юлька не любит „наводящих вопросов“.
— Я вчера у него была, — говорит Юлька. — В последний раз. Когда я сказала маме, что вижусь с отцом, она мне ничего не ответила. Она только посмотрела на меня… Мы сидели в театре, и в тот момент началось второе действие. По-моему, мама была рада, что нельзя разговаривать со мной. Она смотрела на сцену, но все время думала о моих словах. А когда мы оделись и вышли на улицу, она сказала: „Ну, что ж! Откровенность за откровенность…“
Юлька поправляет пламя свечи. Она поднимает глаза, и в каждом ее зрачке горит по маленькой свечке.
— Мама просила меня только об одном. Чтобы я задала ему вопрос, есть ли у него друзья юности? И вчера я задала ему этот вопрос.
Юлька опускает глаза и улыбается самой себе. Она очень похожа сейчас на тетю Варю. Только худенькую и молодую.
— Он сказал, что друзья юности нужны неудачникам. Потому что лучшее, что было в их жизни, — это пора надежд. Чем выше человек поднялся, сказал он, тем меньше у него друзей. И даже штат уменьшается. Он сказал: „Когда я руководил проектом, у меня в подчинении было множество людей. А теперь я в Главном управлении, и весь мой штат — шофер Петя, секретарша Люся и уборщица Маруся“. И он захохотал. „У Пушкина были друзья юности, — возразила я. — По-твоему, он тоже бы неудачник?“ — „В определенном смысле — несомненно“. Так он сказал. И тогда мне стало очень обидно. За маму, за себя. И за тебя. За всех нас!
— И за Пушкина, — подсказываю я.
— И за Пушкина тоже, — говорит Юлька серьезно.
Наша свечка сгорела уже на треть. Сначала она была похожа на дорическую колонну. Потом, когда края оплыли, — на коринфскую.
— Юлька, выпьем за пешеходов! — говорю я.
Я достаю начатую бутылку и ставлю на стол два бокала. Это красное сухое вино „Эгри бикавер“, что в переводе на русский означает „Бычья кровь“. И черная голова быка на красной этикетке напоминает об Испании и корриде.
Мы чокаемся и пьем за пешеходов. За тех, кто надеется только на себя. Пусть его сечет дождь, слепит пурга, ветер сшибает с ног — он шагает своей дорогой и верит в свою звезду…
— Он тебе еще нравится? — спрашивает Юлька.
— Кто? — говорю я и думаю о Вальке.
— Твой юноша с перчаткой, — говорит она.
— А что? Он хороший мальчик, — говорю я. И думаю о Вальке.
— „…И разминулись мы в веках, встречаясь каждый день в подъезде“, — декламирует Юлька.
— Это чье? — спрашиваю я.
— В нашей группе парень один стихи сочиняет, — говорит она.
Я уверена, что это сочинила Юлька. Когда-нибудь она сама сознается в этом. Когда захочет. Она не любит „наводящих вопросов“.
— Ценный напиток! — говорит Юлька и смотрит бокал на свет…
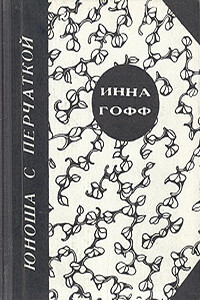



![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
