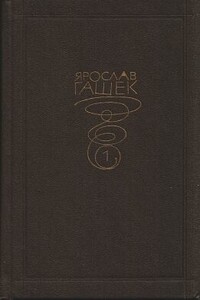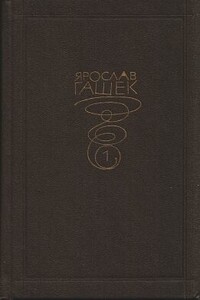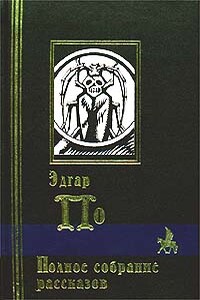— Валенки, валенки, — эх, не подшиты, стареньки!..
Я, заламывая руки, ходил по комнате и старался удержать себя от скоропалительных выводов.
«Во-первых, — рассуждал я, — нельзя зачеркивать выводы ученых. Всё же люди работали. Целый коллектив. Специальным прибором пользовались. Вон даже инстанции к их голосу прислушиваются… Во-вторых, можно и самому какой-то выход поискать. Отшил же я сегодня этого папу. И всего за целковый. Троллейбусу, небось, рубль на бросишь… Нет, надо обождать».
Вечером в наш подъезд пришли влюбленные. Было слышно, как они решают там свои матримониальные вопросы.
— Бу-бу-бу-бу! — сдержанно гудел мужской голос.
— Зола все это! — отвечал девичий. — Любви нет, есть одно половое влечение!
— Бу-бу-бу-бу! — убеждал в чем-то мужчина.
— Ну, ты! — говорила девица. — Руками-то не шуруй! Вот женишься — и будешь шуровать!
Наступила ночь — и влюбленные притихли.
Тогда из близлежащего частного сектора прибежала собака. Пару раз собака гавкнула басом, прочищая горло, а затем залаяла звонко и безостановочно. Видимо, она задалась целью побить какой-нибудь собачий рекорд по продолжительности лая.
Я кинул в неё бутылкой из-под кефира.
Собака с визгом убежала в частный сектор и через пять минут вернулась в сопровождении целой шайки своих приятелей.
Бутылок больше не было.
Я накрыл голову подушкой, положил сверху годовую подшивку «Экономической газеты» и так попытался заснуть.
Всю ночь меня мучил один и тот же кошмарный сон: я убегал от погони, карабкался по буеракам и обрывам, а за мной, след в след, гнались какие-то люди с собаками — то ли охотники, то ли дружинники.
В конце концов они окружили меня, достали медные грубы и задудели: "На речке, на речке, на том бережочке"… А самая свирепая собака, вывалив красный язык, била в огромный барабан.
Я проснулся. Где-то поблизости грохотал оркестр.
На эстраде было пусто — значит оркестр играл в одном из соседних домов. «Что же это такое? — соображал я. — Наверное, какой-нибудь кружок пенсионеров при домоуправлении. Скорее всего. Ну, черт с ним: все-таки музыка, а не собачий лай».
Я сходил за кефиром и газетами — оркестр играл. Я приготовил завтрак и побрился — оркестр наяривал.
Он играл до обеда и во время обеда. Гремел после полудня и перед закатом — когда горизонтальные лучи солнца расплавили окна на жилмассиве. К вечеру оркестр еще набрал силы. Высыпавшие звезды вздрагивали в такт его могучим аккордам.
Только глубокой ночью оркестр начал, вроде, выдыхаться и делать паузы минут по двадцать-тридцать.
Но не выдыхался большой барабан. Дум! дум! дум! — неистово бухал он, даже оставшись в одиночестве…
Наступило третье утро — и я, столовой, обмотанной полотенцем, спустился во двор.
«Надо что-то делать, — думал я. — Вот сейчас разыщу домоуправа и прямо скажу: прекратите это безобразие, а не то…»
Домоуправа искать не пришлось. Они с дворником как раз стояли во дворе и, задрав головы, смотрели на балкон противоположного дома.
— Послушайте, эта ваша самодеятельность… — начал я.
— Какая самодеятельность? — не оборачиваясь, сказал домоуправ. — Свадьба это. Настя Ищукова дочку замуж выдает. Оркестр вон с завода пригласила. — Способный, черт! — уважительно произнес домоуправ. — Барабанщик-то… Смотри-ка — вторые сутки бьет, сукин сын.
— Да это не барабанщик, — сказал дворник. — Барабанщика давно уже скорая увезла. Он сразу двести грамм опрокинул и сковырнулся. Язва у него оказалась… А это Володька Шикунов, бухгалтерши нашей сын. Дайте, грит, я спробую. И как сел — так не встает. Поглянулось, видать…
— Неужто Володька?! — удивился домоуправ. — Вот тебе и стиляга! Надо будет в клуб сообщить — пусть привлекут его.
В это время гости Насти Ищуковой запели:
Чтоб дружбу товарищ пронёс по волам, —
Мы хлеба горбушку — и ту пополам!
Коль ветер лавиной и песня лавиной,
Тебе — половина, и мне половина!
Простоволосая хозяйка выбежала во двор, обняла бельевой столб и заголосила.
— Хлеба горбушку! Да еще пополам… — жаловалась она. — Пельменьев одних мешок накрутила! Водки на сто пятьдесят рублев ушло!..
— Да-да, — сочувственно причмокнул дворник. — Сколько людей ни корми…