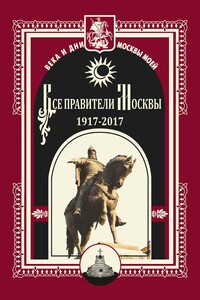— Хорошие, честные девушки вынуждены исполнять похабные танцы, задирать юбки, показывать свои зады на потребу развращенным вкусам богатых потребителей такого товара! — При этом Хрущев отодвинул стул и, повернувшись спиной к присутствующим, нагнулся и задрал полы своего пиджака. Так он изобразил «честную девушку, танцующую канкан». Кто помнит фигуру Хрущева, может себе представить эту впечатляющую картину.
— Нет! — доказывал он. — Не пойдут советские люди на такие фильмы!
Увы, и это пророчество Никиты Сергеевича не сбылось…
Боссы застыли в остолбенении, а Хрущев ликовал. Он считал, что с этими профсоюзными заправилами, классическими предателями дела рабочего класса, иначе и говорить не стоит.
В тот период Никита Сергеевич находился в отличной физической форме. Он легко приспособился к большой разнице во времени между нашими странами и по утрам вставал очень рано, свежим и бодрым. С удовольствием ознакомившись с городом, восхитившись Сан-Францисской бухтой, Хрущев посетил штаб-квартиру профсоюза портовых рабочих Тихоокеанского побережья. По своей сути этот профсоюз, тогда возглавляемый Гарри Бриджесом, был близок компартии США. Хрущева портовики встретили тепло. Тут уж никакой конфронтации не возникло. Кто-то из рабочих протянул ему свою кепку, которую Хрущев сразу же натянул себе на голову, отдав взамен свою шляпу. А подойдя к микрофону, он обратился к рабочим — «Товарищи!». В его глазах эти люди и были «настоящими американцами».
Город Сан-Хосе. Здесь у нас состоялась встреча на заводе фирмы «Ай-би-эм», где производились счетно-вычислительные машины, говоря сегодняшним языком — компьютеры. Принимал Хрущева президент компании Томас Уотсон — моложавый, подтянутый руководитель ведущей фирмы в одной из самых современных областей науки и бизнеса.
Никита Сергеевич внимательно осматривал предприятие: ему показывали новые модели компьютеров, которые отличались от современных, как небо от земли, огромными размерами. Это были просто шкафы, в которых крутились большие бобины, мигали разноцветные лампочки. На широких бумажных лентах, выползавших из принтеров, мы прочли приветственные слова в адрес Хрущева, а на одной даже лицезрели его портрет. Компания собрала со всех своих заводов работников, знающих русский язык, и они исполняли роль гидов.
Затем наступило время ланча. Обедали в заводском кафетерии самообслуживания. Уотсону, Хрущеву и всем нам выдали подносы и провели к прилавку, на котором стояли различные закуски, холодные и горячие блюда. Похоже, Хрущев никогда раньше не бывал в такого рода кафетериях. Он с энтузиазмом выбирал себе еду, раскладывал ее на подносе. Проходя мимо кассы, сказал:
— А у меня денег нет.
Уотсон улыбнулся:
— Ничего. На первый раз мы за вас заплатим.
Томас Уотсон не скрывал своей радости от общения с высоким гостем. Это и неудивительно — у него были давние связи с Советским Союзом. Во время войны он служил пилотом бомбардировщика, и ему однажды пришлось через Аляску и Сибирь долететь до Москвы. Он как бы проложил маршрут, по которому потом летели самолеты, передаваемые Советскому Союзу по ленд-лизу. В другой раз он почти месяц прожил в Москве, так что о России знал не понаслышке. Хрущев тоже проникся симпатией к Уотсону, на его шутки в тон отвечал:
— Компьютерные технологии считаются секретными, но мне все это можно показывать, потому что я в этом ничего не понимаю.
И здесь Никита Сергеевич не обошелся без поговорки, которая опять оказалась трудной для перевода. Он сказал, что не пытается обратить капиталистов в свою веру, что «всяк кулик свое болото хвалит» и что «время нас рассудит», мол, давайте соревноваться, а пока не будем обижаться.
Я, конечно, знал, что существует такая птица — кулик, но никогда ее в жизни не видел. И как она называется по-английски, не имел представления. Но выходить из положения надо было. И я перевел: «Всякая утка свое озеро хвалит». Тут надо сказать, что одна из телекомпаний наняла на период пребывания Хрущева в США русского переводчика. Это был некто Орлов, происходивший из семьи знаменитого графского рода Орловых. Он переводил речи Хрущева синхронно, я же — последовательно. Таким образом, зрители слышали сразу два перевода. Орлов, надо отдать ему должное, знал, как по-английски будет «кулик», и правильно перевел. А утром я прочитал в какой-то газете еще один вариант перевода: «Каждая змея свою трясину хвалит». На следующий день другая газета поместила маленькую заметку «Холодная война между переводчиками», заканчивавшуюся словами: «Итак, утка, кулик или змея? Озеро, болото или трясина?»