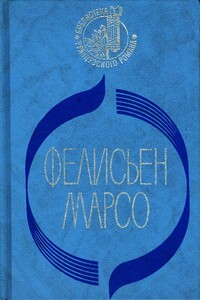– Володя, ты выпил? Что с тобой, милый?!
– Вот уж и милый… Я просто устал… Устал, понимаешь! И не смотри так. Я не твой Лев! Ладно уж… постараюсь помочь… – он не глядел ей в глаза. – Извини… Оставь хоть сегодня в покое! Ты слышишь!
В растерянности то и дело оглядываясь, Фаина спускалась по лестнице, а Владимир Владимирович, чувствуя в ногах дрожь, продолжал механически подниматься. Только в лифте – понял причину ее испуга: в зеркале отражалось чужое – какое-то «конченное» лицо. Дело было не в новых морщинах, не в сплошной седине… – в лихорадочной обостренности лика, в выкате глаз: два готовых прорваться «нарыва» под мраморным лбом изваяния.
Пляноватый вздохнул: «Жизнь, как подлая западня, увлечет, осчастливит, заманит: только устроишься жить – „Стоп! Приехали!“» Мысль была вроде бы грустная, но тут его стал трясти смех. В детстве, когда ему было лет восемь, произошел смешной случай…
Они жили тогда в Ярославле в длинном строении с коридорной системой. Сквозной подъезд в середине дома имел парадный выход на улицу и «черный» – во двор.
Предводитель дворовых «головорезов» однажды приказал Пляноватому: «Эй, шмакодявка, скачи на ту сторону. Там стоит Еська Бронштейн. Скажи, что тут есть для него интересненькое.»
Володя с готовностью отозвался: «Ага!» – и, гордый, что замечен был старшими, устремился к «черному» входу.
– Не туда! – заорал атаман. – Отвори свои зенки! Узрел? Ну так живо, гони кругом дома!
«Отворив свои зеньки», «шмакодявка» приметил ведро, установленное на слегка приоткрытой двери. Стоило створку толкнуть и посудина опрокинется… на макушку толкнувшего… В этом и состояла суть «интересненького».
Обегая «кругом» крыло дома, Володя заранее прыскал со смеху, представляя себе пучеглазого Еську в «интересный» момент.
Бронштейн словно ждал его возле подъезда на улице. Задыхаясь от бега и хохота, Пляноватый с трудом передал ему приглашение и потянул за собой. Будучи года на три старше, Иосиф однако поддался соблазну, и, сопя длинным носом, поплелся к двери во двор. В подъезде Володя просто зашелся от смеха, мысленно видя как то, что было в ведерке, вдруг ухнет на кучерявую голову Еськи. Он выпустил руку Бронштейна, подпрыгнул, визжа от восторга, и предвкушая потеху, забыв обо всем, устремился вперед…
Минуту спустя, весь в фикалиях от макушки до пяток, с ушибленным правым плечом, он все еще корчился около двери в конвульсиях.
– Боже ж мой! С какой стати вы в это влезли? – бранился Иосиф «на вы». – Самый смак этих шуточек вам все равно не понять! – Впечатление было такое, что своей опрометчивостью Володя лишил человека «особого удовольствия»: в страданиях этот народ находил подтверждение своей богоизбранности. Пляноватый смеялся, давился от смеха… Пока не стошнило.
Память об этом событии походила на «память о смерти»… Тошнило от «привкуса запрограммированности». Хотя, в общем, что в этом скверного? Разве инстинкт – не программа? Разве звуки оркестра не подчиняются нотам? Разве слова беллетриста не следуют заданной форме? Просто в старости – все отвратительно: внешность, походка, косноязычие… А всего отвратительней – БОЛЬ! Вот уж где – «конец света»!
Во Вселенском Процессе есть доля каждого чувствующего: чем вернее и глубже чувствующего, тем значительней «доля». И дело не в яркости личности, не в зычности голоса, не в «эпохальном» характере: на изломах истории именно нежные души, сгорающие для большинства незаметно, – ранимые души, вбирающие муки живущих, – одни лишь они «контролируют» ключевые моменты «Программы».