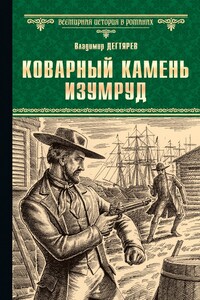На писаном и на пустом листе Иван Васильевич в самом низу мелко, как бы подобострастно, подписал: «Согласен. Иван Третий».
Варнаварец хмыкнул:
— Могу, великий государь, перетолкнуть эту бумагу хоть папе римскому.
— Не надо. Тогда враньё почуют. Пусть ляхи слёзы умиления льют по жиду, им бы так жить... Я потом с ним самолично, со Схарием... Шуйскому накажи, чтобы жид через месяц был здоров, весел и ждал меня с радостию великой.
Варнаварец покачал головой. Да уж, иметь дело с Иваном Третьим — всё равно что целоваться с кабаном.
Иван Третий косо глянул на безмерный обоз, тянувшийся из новгородских пределов в сторону Москвы, спросил:
— Шведы — что? Литвины — как? Как псковские?
— Шведы покрутились пять дней возле берега, отошли прочь. Литвинам некогда, крымские татары осадили Киев, грабят весь юг Польской земли. А псковские молодцом стояли, своего слова не порушили. Они новгородских гонцов приняли, напоили, накормили и отправили назад. Сослались на «Договор», что у них с тобой подписан.
— У меня и с Великим Новгородом «Договор» был. Ну-ну... Теперь снова пиши! Четыре сотни семей известных, новгородских, пусть перевозят к нам, на Москву. А четыре сотни московских семей пусть заселяются в Новгород... Скота много отбили у новгородцев?
— Ой, много, великий государь! Не считано. Режут наши ихний скот, ставят сабельный удар на быках да коровах. Спорят, кто телёнка на копьё поднимет... Поелику гнать скот некому, пастухов в твоём войске нет, а татары скота себе не хотят. Им скот с собой — куда? Им серебро да шаболье надобно...
— Вели скот больше не резать, пусть бросают в поле. Москвичи, что пойдут на житьё в Новгород, тот скот себе приберут...
За пологом свистнули долгим переливом. В шатёр просунулся старшинка личной охраны:
— Делегатов ведут до тебя, великий государь. С подношением.
Иван Васильевич шагнул из шатра. На холм, тяжко причитая, волоклась лента из новгородского люда, человек двести. Посередине хода впряжённые в хомуты новгородцы тянули большую ломовую телегу. На телеге возвышался новгородский вечевой колокол.
Иван Васильевич сделал три шага навстречу серой ленте причитающих в голос людей. Узнал передних: митрополита Феофилакта, обеих посадников, именитого купчину Кузнецкого, трёх тысяцких...
Варнаварец, высокий, жилистый, на половину шага отстал от великого государя, но продолжал говорить ровно, как по писаному:
— Им твоя грамота о немедленной выдаче пятнадцати тысяч рублей известна. Вон, по задкам миловального хода везут на телегах бочки с серебром.
— А ещё? Мне ещё денег надо!
— Ещё добра разного в серебре и в одёже на тридцать тысяч серебром, отстали на полдня пути. Но везут.
— Вели новгородского митрополита Феофилакта тотчас отправить в Успенский собор. Там о нём позаботятся. Федьку Борецкого и... — в моей грамоте ещё указаны трое заговорщиков — пусть хватают у меня на глазах, везут на Москву и немедля башки рубят. Пока я сам вернусь, чтобы духом ихним там не пахло!
— А Марфу-посадницу, великий государь? Тоже казнить?
— Ни в боже мой! У Юрки Патрикеева — сволочи, лисы старой, линялой, на Москве хоромы остались впусте. Так вот, Марфу, стерву жидовствующую, в тот патрикеевский дом и определить. Вместе с младшим сыном и тремя служанками. Алтын в день ей выдавать на содержание. Роту моих немецких рейтар в охрану... А то народ наш, что московский, что новгородский, кишки ей вывернет. Пусть живёт, проживается...
Варнаварец дёрнул плечом, но промолчал. На алтын — три медных копейки в день — на Москве жить можно. Выжить нельзя!
Иван Васильевич стал спускаться от злого нетерпения в сторону воющих новгородских людей. Варнаварец спешил за ним, торопливо подсказывал:
— Вечевой колокол, великий княже, смотри не пинай, даже пальцем не трогай. И не вели кидать в печь на переплавку. Вели его повесить на простой звон, на колокольню Ивана Великого. Без особого шума, ночью. Пусть тренькает... Затухнут искры вольности в Новгороде, тогда хучь што с ним твори...
— Ну-ну, — отозвался великий князь.