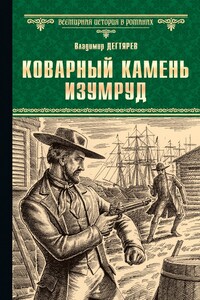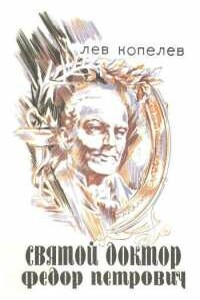В тёмной избе (а по ранней весне в смоленских краях всегда сумрачно) хрипло закашлялся болящий. Второй псковский купчина, Бусыга Колодин, наклонился над ним, спросил:
— Афанасий, Афанасий! Может, тебе чего горячего испить? Селянин, хозяин избы, житель этой лядащей деревушки Ольшага, и не думал бежать за попом: православного батюшку окрест смоленских земель нынче не найти, одни ксендзы здесь обретаются...
Ему опять прилетел крепкий удар в ухо.
— Попа нет, веди любого православного сюда, шилом! — в голос проорал селянину Смолянов. — Вот тебе за то копеечка! — сунул ему серебряную деньгу в рот, и в шею вытолкал бестолкового в дверь.
Мужик за дверью исчез, но тут же появился в оконном проёме, затянутом бычьим пузырём:
— Я вам сейчас, падлы москальские, пана сюда приведу! Ишь ты, сразу в ухо! — и пропал.
Иссохший мужик в рваном восточном халате на лавке хотел подняться, забеспокоился:
— Ты кто? Лицо подверни к свету, не узнаю тебя...
— Мы купцы псковские, Афанасий! На торжищах в Твери да в Новгороде с тобой встречались. Я — Бусыга Колодин, а вот он — Проня Смолянов. А ты — тверской купец Афанасий Никитин. Тебя уж тому как четыре года в Твери потеряли. Говорили, в Индию ушёл. Дошёл хоть до Индии-то?
— А!.. — Болящий купец в бухарском халате задышал ровнее. Ну, теперь ладно. Теперь отойду при своих. Хорошо, что пришли, браты...
— Заговаривается, — опасливо шепнул Смолянов. — Или матюгает нас... по-индийски! Ты, Бусыга, хотел с ним по делу говорить, так говори быстрей... А причастить — всегда причастим... глухую исповедь исполним... Давай про дело!
— Афанасий! Афанасий! — стал громко твердить Колодин. — Дошёл ты до Индии-то али как? Мы тебя подобрали едва живым на реке Днепр у Гомеля. Без лодок, без тягла, без товара. Пограбили тебя али как?..
Во двор избы вошёл местный пан при новом жупане[1] и при сабле на поясе. Сабля до половины торчала из ножен — вот-вот выпадет. За паном шли трое хлопцев с дрынами, а за ними крался хозяин избы.
Пан вошёл во двор, сразу заглянул за угол поскотины[2] и тут же перекрестился на подлый, ксендзовский манер. Увидел, стало быть, за углом десяток верблюдов, да полтора десятка высоких в холке русских коней. И шестерых псковских молодцов увидел с широкими красными шеями, с глазами в прищур: «Ну, кому тут по роже дать?» А потому пан утолкал саблю назад в ножны, развернулся и треснул селянина по уху, какое подвернулось. Плюнул под ноги, подошёл к окошку.
— Москали! Привезут вам скоро попа. На старом жмуйском[3] хуторе православный поп есть. Тоже вроде еле дышит. Ждите, москали... — Пан погладил усы, зыркнул по сторонам, пошёл со двора.
— Подобрали меня — спасибо, — прошептал сквозь кашель Никитин. — А сами вы как? Удачно продрались через разбойных арабов?
— Нет...— виновато ответил Колодин. — Мы этой зимой до Чёрного моря дошли, да там услыхали, что в Трабзоне[4] тебя заарестовали, а местный эмир с тебя все товары ободрал, а самого в тюрьму сунул... Расторговались мы тогда по-скорому в Судаке, да не в прибыток, и повернули в обрат. Нонче что на Каспии, что на Черном море — каждый эмир или султан, как их там, матерь ихну... каждый теперь установил злые пошлины на товары с нашей, русской, стороны. А на свои товары пошлину задрал до небес. Нонче поживы русским купцам никакой... Тебя вот, Афанасий, хоть довезём до Москвы, до лекаря доброго — и то польза.
Никитин с мокротой кашлянул, утверждая услышанное.
— Много товаров из Индии вёз, Афанасий, а? И какие? — подсунулся настырничать Смолянов.
— Камни драгоценные вёз: лалы[5], изумруды, топазы, алмазов пять... всего камней сорок две штуки, ценой на Ганзейском [6] рынке в три пуда серебром. Ткани индийские вёз, но ткани — для показа, чтобы узнать, кому надобны ли... Перец вёз да гвоздику, да других пряностей с десяток видов... Тоже для познания спроса... Да, видать, потерял в зиндане — в подземной тюрьме... Или покрал кто? Кхе, кхе... Всего, значит, на пять пудов серебром, думаю, по ганзейским ценам, вёз я товара. Эмир трабзонский, поди, пляшет от радости... У вас там испить чего крепкого нет?