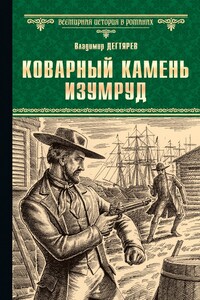— Не помню. Видно, выпивший был... А ты чего?
— А я — того! Я их польское пшеканье понимаю. Ты правду баял. Они, жиды, и продали Афанасия эмиру Трабзона. В смысле, добычу его продали — каменья драгоценные, перец, шафран...
— И тетрадь, что ли, продали?
Во дворе застукали копытами кони. Коней много, и стук копыт не холопский, а уверенный, сытый. Военные кони ворвались во двор.
— Эй там, в хате! Выходи по-хорошему! — заорал голос вполне по-русски. — Велено доставить вас, псковских купцов, да болезного Афанаську в город Смоленск, до князя нашего, Ольгерда Рыжего!
Смолянов бухнул кулаком об стол, выматерился черемисским[8] чёрным матом и толкнул дверь наружу.
— Чего орёшь, сотник? — Проня сразу ухватил глазом у переднего всадника знак сотника на польского кроя папахе. — У нас товарищ отходит, а ты — орать! Попа привезли?
Сотник хоть и служил Литве, а был русским. Сразу сдёрнул папаху, перекрестился, но в хату пошёл уверенно. Приказ от смоленского князя, литвина, сотник, видать, получил крепкий. Крепость его утверждалась тридцатью саблями, что топтались перед избой.
— Велено доставить... Про попа разговора не было, — прошептал сотник. — Это и есть тот купец, что ходил в Индию?
Никитин во сне задышал часто-часто, тощая грудь его заколыхалась в кашле, спёкшиеся губы пустили слюну.
— Всё, отходит, — прошептал Колодин. — Теперь пошли-ка вы все вон! Глухое причастие стану делать. Сволочи, попа не привезли!.. Вон пошли!
Сотник папаху надел, чумно перекрестился, не так и не эдак, и выскочил за дверь.
Никитин открыл глаза.
— Чего это было?
— А вон, уже приехали за тобой, Афанасий. — Бусыга ткнул пальцем в окошко, где уланы рассупонивали коней. — Цельный литвинский отряд. Хотят взять тебя в Смоленск да тетрадь твою!
— Меня пусть берут хоть в ад! Но тетрадь, браты, никому не должна достаться, окромя как великому князю Московскому Ивану Васильевичу. Я на то крепкий обет дал!
— В чём его крепость, Афанасий? — спросил Смолянов, поднося к губам тверского купца самогонную бочажку.
Афанасий хорошо глотнул, вытер губы, потом ответил не спеша, даже ласково:
— А в том обет, что ежели тетрадь моя к Ивану Васильевичу не попадёт, так её никто и не прочтёт. Ибо токмо он знает, как мою крипту[9] честь. Токмо великих князей да царей тайному азбуковнику учат. Вот так, браты! — И Никитин снова затих на лавке.
От белого, чрезвычайно крепкого самогонного вина, хоть и шумело в голове, и по жилам вялость сонная растекалась, а в груди чуялась лёгкость. Дышалось без скрипу и натуги... Вот ведь, а? Поносило по свету, а до дома только чуток не донесло. Время пришло, помирать пора. Эх! Два раза его грабили, три раза он все деньги терял на купле-продаже, ибо чего не знаешь, нечего и покупать! А с другой стороны, как быть купцу в незнаемой стране при незнаемых обычаях? Ведь, почитай, две сотни лет русские люди в тех краях не объявлялись... А раньше... раньше там, в Индиях-то — ого-го! Ведь они, русские, — индийцам прямая родня! А раз родня, то кто-то же из русских первым должен был шагнуть в ту Индию! Ведь две сотни лет не виделись... Эх-хе-хе... В обычае русских самим возобновлять родство и торговлю... Даже вот так возобновить, чтобы три раза деньги потерять, зато потом крупно выиграть на добром товаре! Вот он, Афанасий, в конце-то концов и выиграл! Много выиграл!
Если бы не эмир тробзонский (вот уж где тать[10] — из всех татей тать!)... И таких там нынче столько, что вор на воре сидит и вором погоняет. А ведь ещё и при татарской чуме, батыевом отродье, для русских купцов весь путь по берегам Каспийского моря был открыт, как ворота собственного дома! Давай, заходи! Заходи и двигай в любую сторону — хоть в Индию, хоть в Китай, а хошь, так в Египет! Только в Египте нынче брать нечего, там арабы всё прибрали... весь Восток под себя прибрали именем Магомеда... Да, меняется мир, чего уж там... Как тут не поменяться после татарского двухсотлетнего погрому? Всё в мире татарвой и законами ихними пропахло. Даже души людские. Вот тут тоже вроде родные, русские, псковские купцы — да и те пристали: «Тетрадь да тетрадь им подай»... А может, это мне всё только мнится, а? Может, лежу я в трабзонском зиндане на каменной земле в глубоченной яме, и лезет мне в голову бред, будто от белого вина...