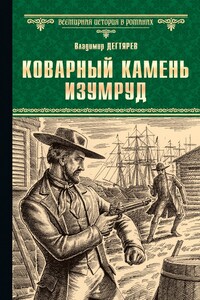— Великий государь Василий Иванович! — с поклоном обратился к Соправителю боярин Шуйский. — Поезжай, Христа ради, встань рядом с матерью. Мало ли чего...
Боярин Шуйский, получив под управление большой полк, предал своих молодших стрельцов под державную руку Соправителя. Молодшие стрельцы, по знаку Шуйского, взяли коня Василия Ивановича в полный квадрат и так, торжественно, прошагали с фузеями через плечо сто шагов до повозочного поезда Софьи Византийской.
Сам Шуйский под широченным рукавом боярского кафтана передал Ивану Васильевичу серебряный стакан с чачей. На левом виске государя билась вена. Бесился великий государь.
— Это — да, это надо. — Иван Васильевич разом опрокинул стакан крепчайшей чачи, занюхал рукавом.
Четвёртый бирюч уже орал:
— А на Великом Новгороде злейший преступник совершил самое злое деяние! Обратил псковичей и новгородцев в свою веру, и те пошли на нас войной. Брат на брата пошёл войной! А ближайшей помощницей жиду Схарии в том кровавом и злобном деле была Марфа Борецкая, вдова посадника.
Из толпы рейтар вытолкнули к помосту совсем спившуюся бабу, одетую в драные обноски некогда дорогого наряда. Московский люд опять зло взвыл. Он ещё помнил, как два года назад эта Марфа, верхом на коне, неслась по улицам к выезду на Псковский шлях и молотила кнутом налево и направо, калеча баб и детей...
Сзади на своём сером ахалтекинце придвинулся к великому государю Книжник Радагор:
— Прости, великий государь, но Марфу надо бы оставить вживе... Ей недолго уже осталось... Пусть в земной жизни ещё помыкается, а жизни небесной ей и так не видать.
Иван Васильевич поднял правую руку. Бирюч споткнулся на слове и замолчал.
— Кричи! — велел Книжнику великий государь.
— Марфу-посадницу, в знак самого жестокого наказания, Великий государь всея Руси и великий князь Московский Иван Васильевич, велит земной жизни не лишать, а водворить обратно на проживание в усадьбу бывшего воеводы Патрикеева, казнённого за преступления против нашей церкви и государя! — проорал Книжник не тише бирюча.
— А-а-а-а-а! — заорали бабы по обеим берегам Москвы-реки. — Помучаешься ещё, сука драная!
Стрельцы в тёмно-синих кафтанах кинули обмороченную Марфу на телегу и вывезли за рейтарский охранный квадрат.
Иван Васильевич снял свою великокняжескую шапку, тяжёлую от золота и дорогих камней, отёр рукавом пот со лба. С утра непривычно припекало солнце. Михайло Степанович Шуйский поддёрнул узду, его конь встал совсем рядом с государевым битюгом. Воевода большого полка протянул в своём широченном рукаве ещё один стакан чачи. Государь махом опростал стакан, занюхал опять рукавом и сказал:
— Хорош! Будя! Да поедем отсель!
— Бирюч пусть покончит с приговором, — шепнул сзади Книжник Радагор.
Бирюч орал:
— За вышеуказанные преступления, за потворство врагам нашей церкви и за посев жидовской ереси в наших пределах, жида Схарию казнить древним обычаем! Жида Мойшу из Пизы за попытку лишить жизни нашего великого государя, путём отравления, казнить древним обычаем. Новгородского купца Зуду Пальцева, тайно перешедшего в жидовскую веру и служившего послухом врагам нашим, казнить древним обычаем.
Гридни Шуйского между тем уже столкнули с колымаги на землю широкую бочку. Кат Томила поднял свой знаменитый хлыст, примерился и:ударил. От удара крепкой кожи, с вплетёнными в неё проволоками и железными шариками, бочка громко треснула, помедлила и развалилась на доски. На земле осталась лежать куча вонючего тряпья.
Шуйский махнул ближнему рейтару. Тот, отвернувши нос, ткнул в кучу боевой пикой. Тряпьё разлетелось в стороны, и на свет перед народом показался жид Схария. Подручные ката Томилы тотчас ухватили его и поволокли на плоты. Одни перетянули руки преступника сзади знаменитой московской вязкой. Другие тут же связали Схарии ноги, прикрутили к ним огромный камень в дерюжном мешке.
— Слово! — заорали москвичи. — Последнее слово! Пусть скажет!
— Говори! — рыкнул Иван Васильевич.
Схария глянул на Болото, на толпы москвичей, не перекрестился ни католическим, ни русским обрядом. И молитву не прочитал и мольбы не проорал. Ухмыльнулся прямо в страшную рожу ката Томилы, произнёс: