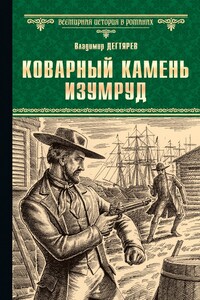Настоятель Успенского собора, спрятавшись под парчовым покровом алтаря (не успел из храма в придел укрыться), исходил мочой и потом. Он никогда не видел своего государя таким грозным. И грозным на кого? На Бога! Страх так и гнал из настоятеля разную жидкость: чуялось, что вот-вот через поры кожи закапает и кровь...
— А Еленку молдаванскую, думаешь, это я благословил на брак со своим сыночком Иванушкой?.. Я ведь по лику её сразу увидал, что змея она и больше никто. Мои послы, что в Бессарабию ходили на предмет сватовства, потом, под дыбой сознались, что отец её, Дмитрий, король молдавский, только так, по подсказке католиков подлых, обещал мне помогать против крымских татар и против турок. Православным уставом крестился. Твоим уставом! А сам, вишь ты, после замужества доченьки своей велел моим полкам отойти от его границ подальше, чтобы на него не обиделись татары и поляки... Продал меня мой сват... Ничего, я до него ещё доберусь! Не я доберусь, тако внуки мои до его страны дотянутся!
Молчание надолго повисло под высокими сводами огромного Успенского храма. Настоятель, пока великий государь пил из чаши вино да гулко кашлял, сумел-таки из-под алтаря на четвереньках перебраться за царские ворота. А там в ночную вазу успел слить нижнюю жидкость. Потом он снял обмоченные сапоги, переменил шерстяные носки и сам упал на колени перед малой алтарной иконой Вознесённого...
— Угробил я много народа, — говорил государь прямо в лик Богочеловека. — А вот что же ты, Спаситель, не можешь свою веру соединить, да разом дать одну веру всем народам? Одну веру! Не можешь? Вот ведь как деется: сегодня я на Болоте троих посажу в воду, а завтра двинусь на Калугу, там у меня уже военный стан раскинут. И будет нынешним летом война! Лихо будет всем народам от Нарвы до Крыма. Ибо одни верят в мать твою, блаженную девственницу, а мы верим в тебя. Вот так и сойдутся завтра в кровавой резне не люди, нет... Мать твоя пойдёт против тебя, Господь ты наш всеблагий... Нет, нет, раз это мы войной наступаем, значит, это ты, Господь всеблагий, завтра пойдёшь супротив своей матери-девственницы... Выдумают же евангелисты... Девственница, а родила... тебя, грешного...
Иван Васильевич допил вино из огромного кубка, что-то свирепое хотел добавить, да тут к нему неслышно, в одних носках подошёл настоятель Успенского собора:
— Гонец к тебе, великий государь! На Болоте тебя уже ждут...
* * *
Три рейтарских сотни закованных в кирасы немецких солдат, да три сотни стрельцов кремлёвской стражи, взяли на берегу в квадрат то пространство, где встал великий государь со своим наследником и Соправителем, великим московским князем Василием Ивановичем. Великая княгиня Софья Византийская сидела в открытом возке, подальше от воняющего Болота, при особой охране.
Река Москва делала в этом месте загиб, который по весне заполнялся водой. Потом вода сходила в низины, а в Болоте вода так и гнила до середины лета. Очень удобное место каждый год творила Природа для древнего, свирепого способа казни.
Заранее уже, с прошлого дня, на Болоте сколотили широкие мостки, чтобы все любопытствующие могли видеть Государево правосудие. А от мостков подручные ката Томилы теперь тянули на середину большой вонючей лужи три плота. Бегали по плотам, шестами мерили глубину Болота.
На той стороне Москвы-реки воинской охраны не имелось, но там иногда проезжали сквозь огромную толпу любопытных конные воины Эрги Малая. Тогда замоскворецкая толпа и не дышала — ждала казни тихо и прикаянно.
Бешбалда тихо говорил мужикам:
— А за то и казнят, его, Схарию, что ведь этот гад пять стран прежде обгадил. Придёт, обернётся давним жителем и начинает всякие поносные речи говорить. Мол, вы не так живёте, не так молитесь да не тому богу... А народы-то везде одинаковые. Что мы, что, скажем, литвины. Им бы от весны до весны прожить. Ну, они и слушают этого Схарию. А он им соловьём заливается, что будет, мол, у вас впереди светлое будущее...
Здоровенный мужик, лодочник с московского перевоза, церковный староста Бутырского прихода, тихо спросил:
— Светлое будущее, это как понять? Как Царствие Небесное?