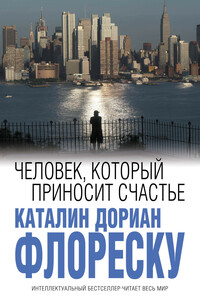Пока поезд ехал через Банат, мы часто видели людей, остановившихся в чистом поле: маленькие группки пытались спрятаться от солнца в тени повозок, большие толпы походили на народные гуляния или ярмарки. Однако неподалеку от них стояли солдаты охранения, тоже изнывающие от жары. Это была единственная справедливость из всего, что с нами происходило. Все, кто стоял в поле, — и охраняемые, и охранники, — ждали спасения от мук — поезда, который увезет их.
На вспаханных полях, на склонах холмов, в высокой траве стояли люди со шкафами, буфетами и сундуками, набитыми нижним бельем, заштопанными штанами и потертыми свитерами. Одна женщина положила своего младенца в открытый ящик и развесила на ветвях деревьев мокрые пеленки и белье. Потому что даже там, под открытым небом, она хотела остаться порядочной домохозяйкой. Весь склон был увешан бельем, казалось, будто на холме вырос парус. Какой-то мужчина сидел в кресле посреди речки и остужал ноги в воде. На коленях у него лежала шляпа, дамская, — быть может, последняя память о жене.
Мы смотрели на них через маленькие оконца и удивлялись. Между тем в вагоне появилось много новых пассажиров, а на станциях, где мы останавливались, было настоящее столпотворение людей и животных. Если Вавилонская башня когда-то и существовала на самом деле, то она была здесь — на каком-нибудь захолустном полустанке, куда сгоняли, как скотину, румын венгерского, сербского, болгарского и немецкого происхождения.
К нам присоединился одноглазый румын с женой, глаз он потерял на войне. Ветеран войны и орденоносец, он думал, что ему ничто не грозит, однако журналистское прошлое настигло его. Был в вагоне и еще один румын — армейский офицер и идейный член партии, он как раз навещал свою невесту, богатую швабку, когда к ним постучались.
Румын из Бессарабии, с заметным акцентом, оплакивал свою семью, которую не видел с 1940 года, когда их разлучила война. Он был хорошим ремесленником, жил тихо и теперь никак не мог поверить, что беда случилась с ним только из-за его происхождения. Все они пытались как-то объяснить себе, почему оказались здесь, только я давно перестал об этом думать.
Мы ехали уже неделю, возможность выйти из вагона и справить нужду выпадала редко. Обычно выручало ведро, но, поскольку дверь вагона не открывалась с прошедшего дня, оно стояло полное и ужасно воняло. Отца мучили спазмы, лицо налилось кровью, он терпел из последних сил. Он отполз в угол и, когда я отыскал его взглядом, корчился, лежа на полу.
Я достал нож и стал лихорадочно осматривать дощатый пол вагона в поисках щели, нашел и принялся за работу. Через четверть часа я достаточно расширил щель, чтобы использовать ее по назначению. Затем помог отцу подняться и поддерживал его. Когда он собрался спустить штаны, я заметил любопытные и брезгливые взгляды соседей и шепнул ему: «Погоди еще секунду». Я достал одеяло, развернул его и загородил отца. «Теперь можно. Никто тебя не видит». И он присел.
Иногда, когда наш состав останавливался на станции, пассажиры других поездов и люди на перроне крестились, увидев, что за товар везут в этом товарняке. Они сразу снимали шапки, но крестом осеняли себя, только убедившись, что поблизости нет никого, кто может и их засунуть в такой же вагон. Те, кто посмелее, бежали домой и приносили нам черный хлеб, повидло или воду. Солдаты легко поддавались на уговоры и ненадолго отворачивались, ровно на столько времени, сколько было нужно, чтобы передать сверток.
Однажды поезд остановился так внезапно и резко, что мы повалились друг на друга, а из одного шкафа вывалилась и побилась посуда. «Разве это не к счастью?» — сказал кто-то, но никто не обратил внимания на эти слова. Мы поспешили к окошкам, однако не увидели ничего, кроме поля подсолнечника и красного дивана, на котором сидели мужчина в темных очках и женщина с вывернутыми ступнями.
— К нам они не идут, — заметил кто-то.
— Но, может, мы к ним пойдем, — ответил я, увидев, что к нашему вагону приближаются солдаты.
Дверь со скрипом отодвинулась, и мы прикрыли глаза руками, ослепленные ярким светом.