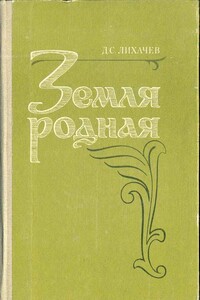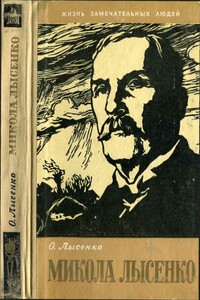11 июня 1941 года я защитил кандидатскую диссертацию по новгородскому летописанию XII в. Для меня это была не только диссертация, но и выражение своей увлеченностью Новгородом, где мы с женой в 1937 году провели свой отпуск, а спустя год я приезжал туда со своими друзьями — М. И. Стеблиным-Каменским и Э. К. Розенбергом, русским немцем удивительно веселого нрава. Мы исходили Новгород и окрестности вдоль и поперек, побывали в каждом достопримечательном месте. Летописи Новгорода представлялись мне живыми, события становились почти зримыми. С тех пор я оценил научные темы, даже отвлеченно-филологические, в которых была хоть доля личного чувства. Своим ученикам я стараюсь постоянно рекомендовать темы, так или иначе связанные с ними биографически, темы, не только обещающие интересные результаты, но и близкие им по материалу.
Защиты диссертаций были в те времена не очень частым явлением. На моей диссертации оппонентами выступали академики А. С. Орлов и А. Н. Насонов. Пришли лингвисты (среди них академики Б. М. Ляпунов, Б. А. Ларин, Е. С. Истрина) и литературоведы (В. Л. Комарович), историки и историки искусства (Н. Н. Воронин). Народу было довольно много. А. Н. Насонов как оппонент произносил свой довольно длинный отзыв без единого листка бумаги — все по памяти.
Через две недели разразилась война. На призывном пункте меня с моими постоянными язвенными кровотечениями начисто забраковали, и я довольствовался участием в самообороне, жил на казарменном положении в институте, работая «связистом» и дежуря на башне Пушкинского Дома. В моем ведении была ручная сирена, которую я приводил в действие при каждом налете вражеской авиации. Спал я то на крыловском диванчике, то на большом диване из Спасского-Лутовинова и думал, думал… Жена старалась дома выкупить паек на всех, вставала ночью, чтобы занять очередь первой в магазине. Детей тогда было приказано вывозить из Ленинграда, взрослым же оставаться. Но мы своих детей скрывали на Вырице, откуда их вывез перед самым занятием ее немцами заведующий корректорской Издательства Академии наук М. П. Барманский. Если бы не он, остался бы я без семьи. Мы в Пушкинском Доме и не подозревали, что враг так близок к Ленинграду, хотя и ездили на окопные работы — сперва у Луги, потом у Пулкова.
Удивительно, что, несмотря на голод и на физические работы по спасению наших ценностей в Пушкинском Доме, несмотря на все нервное напряжение тех дней (а может быть, именно благодаря этому нервному напряжению), язвенные боли у меня совсем прекратились, и я находил время читать и работать.
Не касаюсь сейчас истории нашей жизни в блокированном Ленинграде: это тема целой книги. Писать о блокаде мельком невозможно. Скажу лишь следующее: потери в нашем институте, в нашей семье, среди наших знакомых и родных были ужасающие: больше половины моих родных и знакомых погибло от истощения. Мы очень плохо представляем себе, сколько людей унес голод и все остальные лишения.
Однако мозг в голод работал напряженно. Я даже думаю, что эта усиленная работа голодающего мозга «запрограммирована» в человеке. Особенно остро мыслить в период лишений и опасностей необходимо для сохранения жизни. Но думалось в этот период не о том — как бы избегнуть этих лишений, а об общих судьбах нашей страны, России.
Миллионы ленинградцев уже не знают — что такое была блокада. Представить себе это невозможно. А что говорить о приезжих, об иностранцах!
Чтобы чуточку представить себе, что такое была блокада, надо зайти в школу, когда кончаются уроки. Посмотрите на этих шумных детей и представьте себе именно их, но молча лежащими в своих десятках тысяч постелей в промерзлых квартирах, без движения, даже не просящими пищи, а только выжидательно на вас смотрящими.
А еще представьте себе или вспомните (это было совсем недавно) те отсутствующие классы в ленинградских школах, которые приходились на годы рождения их учащихся — особенно 1941–1942.
Об окончании войны я узнал утром на улице — по лицам и поведению прохожих: одни смеялись и обнимали друг друга, другие одиноко плакали. Какое другое событие могло вызвать столько радости и такую волну горя? Плакали о тех, кто погиб, умер от истощения в Ленинграде, не дождался встречи с родными, кто оказался изуродованным и нетрудоспособным. Я и сам, прежде чем взять в руки газету, думал о многих самых близких мне людях, умерших от голода в Ленинграде и убитых на фронте. Была и тревога за тех, о ком долго не было известий: живы ли они, сохранились ли? Хотелось встречаться, говорить; множество чувств, и самых разнообразных, овладевало мной и другими. Не помню только одного: чувства мстительного торжества.