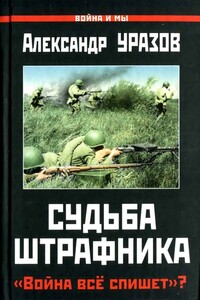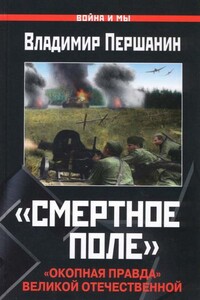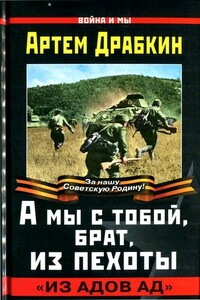Мы быстро слабели. Появились больные «куриной слепотой». С наступлением сумерек они ничего не различали в темноте, в том числе и в боевом охранении. Это было чревато.
На полпути от окопов к блиндажу в снегу долго лежала павшая лошадь. Когда и отчего она пала, никто не знал. На нее поглядывали, однако трогать опасались — еще пришьют какое-нибудь новое обвинение… Но однажды ночью кто-то все же решился, и к утру от трупа остались только кости. Зря старались — даже после двухчасовой варки старая конина не годилась в пищу.
А между тем в воздухе витало постоянное ожидание немецкой атаки, которую мы обязаны были отразить любой ценой, или не менее обязательного приказа наступать. «Впереди нас слава ждет», сзади — известно что. И миссия эта возлагалась на дистрофиков.
Было ли это одной из форм наказания штрафников? Не думаю. Штрафники держали участок фронта. Просто забота о людях не была характерным свойством ни Отечества нашего, ни его полководцев. Теперь о другом. «В чистом поле, в чистом поле колосок растет на воле».
В чистом поле, где чаще всего воюет пехота, солдат должен иметь себе хоть какой-то приют. Пехота поэтому делает при окопах землянки или блиндажи, где можно обогреться, посушить портянки, преклонить голову на ночь, отдохнуть душой. Но землянку, тем более блиндаж, не сделаешь без кровли. В голой степи, где мы находились, материала на кровлю не было никакого — ни деревца, ни бревнышка, ничего годного вообще. Однако в зимней степи надо было как-то выживать. И солдат, способный, как известно, сварить суп из топора, придумал, чтоб не пропасть, нечто. В низине, слева от командирского блиндажа, было замерзшее болото, а вокруг — густые заросли камыша. Камыш срезался у основания. Длины камышин хватало на то, чтобы плетенкой из них накрыть сверху окоп, не более. Затем к такой ненадежной кровле приставлялись с обеих сторон в окопе ширмы из того же сплетенного камыша — и убежище от ветра было готово. Оно, правда, давало тесный приют всего нескольким бойцам, и потому пользоваться им приходилось только поочередно.
Внутрь ставилась пустая бочка. В ней были пробиты две дыры: сбоку — топка, сверху — вытяжка. Над верхней дырой камышовая кровля раздвигалась, и бочка топилась по-черному: труб в округе тоже не было…
Не было и дров. В печке горели кирпичи. Вымоченных предварительно в керосине, их хватало примерно на час горения. Затем бочка остывала, их заменяли.
Стены окопа у бочки старались расширить в нижней части. В результате можно было уже подремать в неустойчивом уюте, где иногда начинала тлеть шинель от прикосновения к бочке или замерзала возле ширмы голова. Этот полусон-полубред не давал отдыха, но создавал хоть видимость приюта, а иного не было дано.
Раз или два в неделю в одном из взводов пересохшая над отверстием топки камышовая кровля загоралась в ночи. Все стремглав выскакивали из окопа и разбегались подальше, поскольку начинали рваться оставленные под плетенкой патроны в цинках и ракеты. Феерический костер, из которого разлетались во все стороны трассирующие разноцветные пули, зловеще озарял все вокруг. И тут же начинали садить из миномета по возникшему в ночи ориентиру немцы, прижимая нас намертво к мерзлой земле. Остаток ночи проходил кое-как. Наутро приступали к восстановлению.
Однажды все были взбудоражены ночным ЧП. Командир роты, обходя с караулом посты, обнаружил уснувшего в боевом охранении штрафника-аварца. Он привел его в свой блиндаж, арестовал и доложил по телефону наверх. Последовало решение: расстрелять на месте, доведя до сведения всех. Аварца в одном белье и без сапог повели кончать в овражек, пересекавший линию окопов. Пройдя немного, тот внезапно бросился что есть мочи бежать от конвоя со скоростью, доступной только босому. Ему вслед стали беспорядочно стрелять. Но он мгновенно растворился — белый на белесом фоне ночного снежного поля. Ушел к немцам. И опять же ночью, озаряемой лишь редкими беззвучными сполохами где-то далеко справа, тишину вдруг нарушил одинокий голос, негромко затянувший совсем лишнюю здесь песню: