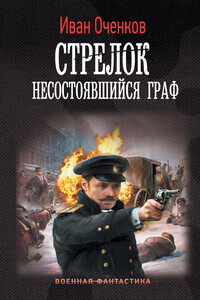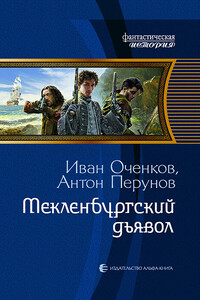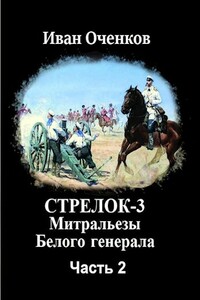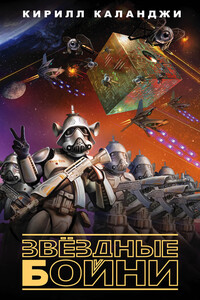С потерей двух броненосцев японский флот утратил свое преимущество, поскольку в ближайшем будущем, на каждый корабль линии русские могли выставить два. Оставалось, впрочем, еще превосходство в броненосных крейсерах. Даже с учетом выделенных для парирования "Рюрика" и "Авроры", "Адзумы" и "Токивы", у японцев оставался двойной перевес над своим противником. Иными словами, в борьбе на море наступило шаткое равновесие и от того кто нанесет первый удар, зависела судьба войны. Противники, однако, не спешили пока ставить все на карту. Того занимался обустройством разгромленной маневренной базы, а Иессен ограничивался тем, что раз в неделю, выводил сохранившие боеспособность корабли для обучения эволюциям. Минная обстановка у Порт-Артура несколько улучшилась, поскольку после бойни у Эллиотов и потери "Касуга-мару" выставлять японцам было пока нечего, а уже установленные мины активно тралились. Единственным активным действием, стоящим упоминания был поход крейсеров Рейценштейна к Инкоу, откуда они привели канонерскую лодку "Сивуч", которую все уже считали потерянной.
Все это время ни один японский перворанговый корабль не появлялся рядом с Порт-Артуром и лишь изредка мелькавшие миноносцы напоминали о том, что война продолжается. Впрочем, как оказалось, пассивность врага была лишь кажущейся. После разгрома корпуса Засулича, японское командование стало перед дилеммой: Развивать ли наступление вглубь Маньчжурии или двинуться вдоль побережья к русской военно-морской базе. Поскольку доставлять подкрепления и припасы по корейским дорогам было крайне неудобно, предвоенным планированием была предусмотрена высадка крупных десантов на китайском побережье. Очевидно, японский генштаб предполагал, что русский флот к этому времени будет заблокирован в своей базе, однако возросшая активность последнего поставила на их планах жирный крест. Было очевидно, что любая подобная попытка может быть легко парирована Порт-Артурской эскадрой, и потому чревата разгромом. Тем не менее, что-то было нужно делать, и японцы решились высадить тактический десант в Дагушане. На флот была возложена задача: любыми способами защитить транспорты с войсками. Именно это и послужило причиной долгого отсутствия Того у Порт-Артура. Могучие броненосцы и крейсера, которого шли рядом с караваном пароходов в полной готовности к отражению любой атаки. Операция, предпринятая крайне ограниченными силами, неожиданно имела значительный успех. Выделенная для этой цели одна-единственная бригада, не встретив сопротивления, заняла город и прилегающие к нему высоты. Русское командование слишком поздно получило сведения об этих действиях противника, к тому же численность десанта была безбожно преувеличена. Будь на месте Куропаткина более решительный главнокомандующий, он, возможно, узнав о высадке вражеского корпуса с артиллерией, послал бы туда свой корпус с приказом сбросить неприятеля в море. Увы, для Алексея Николаевича, это было лишь поводом дать приказ русским войскам оставить удерживаемый ими Фунхуанчен и отступить к главным силам. Полагая, что высадка главных сил японцев уже состоялась, русское командование не стало ставить перед своим флотом задачи противодействовать ей, поэтому японцам удалось быстро нарастить свою группировку и их небольшие отряды начали продвигаться вперед к Сюяню и далее к Далиньскому перевалу.
Один из таких отрядов, бывшим в отличие от остальных конным, смог даже перевалить через перевал и обозначить угрозу станции Ташичао, гарнизон которой был крайне невелик. Имея крайне преувеличенное мнение о японских силах, начальник этого гарнизона был готов оставить станцию и отступить. Говорили даже, что был отдан приказ об уничтожении имущества и порче путей, лишь по счастливой случайности не выполненный. Положение спас командовавший Уссурийской конной бригадой генерал-майор Самсонов. Получив сведения о прорыве вражеской кавалерии, он немедленно выступил вперед с Нерчинским казачьим полком и в яростной схватке начисто истребил весь отряд противника. Молниеносному успеху особенно способствовало вооружение казаков пиками, против которых не смогли выстоять японские кавалеристы, имевшие только сабли.