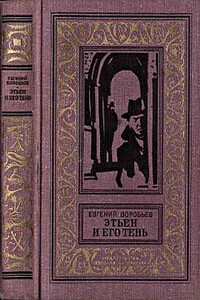— Я не узнаю вас сегодня, Константин Максимович, даже не верится, что вы сразу так сдали. Опустили руки. Вы ли командовали ротой на фронте?
— Батальоном…
— Тем более. — Маша бросила весла, и лодку закачало. — Для меня в те годы все вы казались самыми сильными людьми на свете. Когда погиб Андрей, я так страдала и так завидовала мальчишкам! Почему я тоже не могу вступить добровольцем в Уральский танковый корпус? Я сама принесла Карпухиным письмо от танкистов про Андрея! Служба показалась мне такой маленькой! Захотелось мужского дела. Пошла на завод, в шоферы. Бетоновоз… А тут такие морозы ударили! Руки примерзали к рулю, к рычагам. Возила бетон на домну — тогда шестую печь строили. Хотелось работать так, чтобы… Каждый человек оттуда, с фронта, с ленточками ранений, с медалью, был для меня воплощением мужества… Когда мне потом, впервые в жизни, по-девичьи стало трудно… Я верю, вам можно сказать… Это было уже после войны. Шла демобилизация. Возвратились чужие мужья, чужие женихи. И такая тоска меня взяла… От всех подруг отбилась. Поверите? В кино перестала ходить… Кто я была Андрею? — Маша задумалась так, словно сейчас вот, впервые, задала себе этот вопрос. — Тетка Василиса считала меня невестой. Я вдруг попала во вдовы, хотя не была ничьей женой… Потом подумала: а веселье, танцы, гулянья — разве все это в обиду памяти Андрея? Может, мне так удобнее и легче рассуждать. Я стала пропадать на танцах, сразу завелось много знакомых… Но лучше бы у меня одним знакомым было меньше… — Маша покраснела, словно отблески далекого зарева приобрели внезапно новую силу. — Я стараюсь об этом не вспоминать… Я глупо увлеклась, нелепо, как это случается у девчонок в двадцать лет. Я скоро поняла, что все это — не настоящее. Я избегала смотреть в зеркало… Ненавидела себя за то, что похорошела… Отдала подруге свое единственное праздничное платье. Я стеснялась, брезговала носить то платье… Я бежала от людей, чуралась обще-ства… Я вымаливала прощения у Андрея… Кто знает, может, он и простил бы меня, если бы был жив. Но ведь если бы Андрея не убили, наверно, и не пришлось бы перед ним виниться… Вы поверите? Мне стало тошно жить, жалко себя, пустота вокруг… К счастью, все это быстро прошло. И знаете, кто мне помог? Вы мне помогли, фронтовики! Я думала о людях, которые сохраняли присутствие духа в самые трудные минуты жизни. Что значила моя маленькая катастрофа, когда люди пережили в годы войны такое? Сейчас Борис повторяет каждое ваше слово. Он тянется за вами, подра-жает. И походка у него теперь чуть вразвалочку, наподобие вашей. А как он кепку надевает, как вверх смотрит, как сплевывает, как рукава рубашки стал закатывать — ну все-все! А вы хотите Бориса бросить. Хотите: бросить людей, которые в вас верят, у вас учатся, для: которых вы не только прораб. Вы для них — фронтовик, командир. А вы спешите разжаловать себя в рядовые.
Токмаков не спускал с Маши глаз.
— Я чувствую себя перед вами штрафником.
— Так исправляйтесь! В прошлый раз вы только и твердили: проект, «свечи», Дерябин…
— Но вам же это надоело?
— По-моему, это вам надоело. Вы сегодня ни слова не сказали о своих делах. Взгляните на себя — заросший, рычите на людей, спите в какой-то трубе. Со мной сегодня не поздоровались. Отцу моему — не ответили, А он вас на охоту звал. Еще удивительно, что вы отозвались на мою записку.
— Не ругайте меня. Я вам первой…
— И не рассказывайте больше никому. А это бросим!
Маша скомкала листок, швырнула его за борт, схватилась за весла и неловко зашлепала ими по воде, так что брызги ударили Токмакову в лицо.
Токмаков отряхнулся, с веселым изумлением глядя на Машу.
— А у вас характерец! Человек месяц мучился, носил этот приказ в кармане, а вы раз — и выкинули!
— Жалеете? Я могу вернуться. — Маша начала разворачивать лодку.
— Не стоит, не стоит. — Токмаков встал и сделал шаг, протягивая вперед руки. — Дайте-ка мне весла. А то я сижу тут дураком, болтаю.
Он отобрал у нее весла, помог перейти на корму, снял с себя и протянул ей куртку.
Маша с удовольствием вдела руки в рукава; куртка еще хранила тепло его тела.