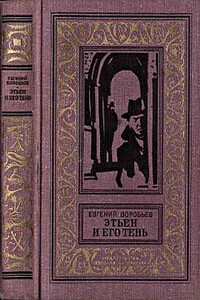— Скандалил? — обрадовался Токмаков. — Это хорошо!
Токмакову трудно было представить себе Пасечника тихим, послушным, покорно лежащим на больничной койке. Поэтому его так обрадовало, когда Пасечник, в оживленном рассказе Маши, вновь предстал таким, каким его все знали.
А Маша подробно рассказывала о больнице, как она вошла в палату и Пасечник ей улыбнулся белыми губами, произнеся вместо приветствия: «Симуляция — залог здоровья»; как он беспокоился, что все еще идут дожди; как он жалел о том, что добрые люди будут без него «свечу» с «подсвечниками» поднимать, а он, мол, валяется, «тяжелоздоровый»; как он подмигнул Маше, и, сославшись на какого-то ученого, заявил, что вообще жить вредно, ибо от этого умирают.
Маша вспомнила: Пасечник просил передать Токмакову, чтобы тот не расстраивался.
Токмаков, услышав это, опустил голову.
Маша прервала свой рассказ на полуслове:
— Вот вы и расстроились, Константин Максимович. А он поправится. Он так бодр, так шутит, возле него дежурит Катя, она ему газеты читает. Я уверена, что он скоро выздоровеет.
— Такие люди, как Пасечник, не перестанут шутить даже перед смертью. А верхолазом ему уже не быть.
— Мало ли интересного дела на земле! Пойдет к нам в лесопитомник садовником. Он сегодня грозился, что поступит на лодочную станцию — встречать и провожать влюбленных…
— Пасечник?! Да он же презирает все земные профессии. Он — верхолаз, поймите, Маша. Войну провоевал в разведке — цел остался. А тут… И все по моей вине.
— При чем тут вы? Вы же приказали прекратить работы? Он же нарушил ваш приказ?
— Я запоздал с другим приказом, Маша. Раньше надо было приказывать.
Токмаков достал из кармана куртки измятый листок и протянул его Маше.
Лодка покачивалась сейчас далеко от берега, почти на середине пруда.
Где-то за крышами правобережного города, за Чапаевским поселком, тлел закат, а с приближением вечера, как всегда, стало видно бессонное зарево над заводом.
Закат на западе отгорел, но на смену ему вставал еще более яркий закат на востоке. Небо на востоке дышало огнем, огонь охватывал облака своим жаром и перекрашивал их в розовый цвет. Два заката соперничали один с другим. Алые отсветы ложились на воду. То было отражение оранжево-рыжих и розовых облаков, а облака отражали зарево цеховых пожаров.
Вечер коснулся уже и неба и воды. На дне лодки сгущались тени.
— И вы колебались? — подняла голову Маша; белый воротничок, охватывающий ее шею, стал розовым; выгоревшая прядка волос, лоб, щеки, руки, держащие листок, тоже порозовели.
Отблески доменного пожара легли румянцем и на небритые щеки Токмакова. Он сидел, поставив локти на колени, подперев подбородок кулаками.
Маша нехотя взялась за весла, не бросая смятого листка.
Лодка медленно, виляя, тронулась с места. Токмаков слегка перегнулся за борт и увидел в воде ее перевернутое отражение, будто там плыла вторая лодка, огненно-пунцовая под водой и тоже без днища, и второй, невидимый гребец лениво греб искривленными веслами в такт с Машей.
— Помните то утро, когда мы столкнулись с вами у гидранта? — спросил Токмаков. — Мне было муторно, какая-то странная пустота в душе. Вытащили из меня этот осколок, пошел домой — тошно, одиноко. Не выдержал, побежал на домну. По дороге к вам пристал, вы меня отчитали. Потом мне досталось от Дымова: поставил меня на одну доску с этим Дерябиным, который всю войну прожил в бомбоубежище. Я со злости полез наверх, а там совершил непростительный поступок — при Пасечнике прошел по такой же узкой балочке, с какой он сорвался после дождя. Потому я и заколебался с этим приказом. А потом его подвиг. Опять у меня строгости не хватило.
— В чем же ваша вина? Вы же не могли одной рукой награждать, другой — наказывать?
— Мог. Обязан был. Струсил. Конечно, струсил. И если меня переведут сейчас в мастера — да что в мастера! — в бригадиры, на место Пасечника… Правильно сделают!.. Били уже меня за ухарство. На фронте. Вздумал собирать на минном поле землянику… — Токмаков запнулся. — Ну, в общем, для одной девушки из медсанбата. Тоже гусар нашелся! Не подумал, какими глазами смотрят на меня солдаты. Вот и всыпала мне парткомиссия. До сих пор выговор таскаю.