— На правый.
— Ну, вот и хорошо. Вместе уедем на катере. Он к пяти часам подоспеет.
Она принесла сверточек с едой, усадила Токмакова на ступеньки крыльца, велела ждать, а сама ушла в контору, где собралось начальство и уже началось что-то вроде летучего совещания.
Маша вошла в контору, скосила глаза и увидела в окно Токмакова. Тот сидел на ступеньках крыльца и закусывал.
— Токмаков с аппетитом ел, поглядывал в раскрытое окно и прислушивался.
— Посадить дерево — это только начало, — горячо убеждала кого-то Маша. — Нужно еще ухаживать. Нужно защитить от всех опасностей. Чтобы не сломали. Чтобы козы не обглодали. Вы только умеете подсчитывать, сколько деревьев посажено. А вы подсчитайте, сколько деревьев выжило! Цифры в ваших отчетах сразу поубавятся.
Плонский возражал Маше, но Токмаков не расслышал ничего, кроме «пожалуйста», и тут же Плонского заглушил мощный смех Медовца.
— А здорово нас тут с тобой в оборот взяли, товарищ Плонский, — добродушно сказал Дымов, выходя из конторы.
— То-то Плонский никак не хотел заезжать в лесопитомник, — напомнил Терновой; он осторожно, опираясь на палку, спускался по ступенькам крыльца.
— Занозистая девушка! — Дымов, перед тем как сесть в «победу», попрощался с Машей, а это было признаком того, что он доволен ею. Он уже собрался захлопнуть дверцу машины, но увидел Токмакова. — А вы почему не грузитесь?
— Я отсюда на катере доеду.
— Что же ты, Пантелеймоныч? — рассмеялся Терновой. — Возил, возил свой кадр и вот куда завез.
— Он в этом лесу не заблудится, — взорвался смехом Медовец, уже торчавший чуть не по пояс из кузова своей машины. — У него тут Красная Шапочка знакомая.
Маша непроизвольно поправила косынку.
— А я и не знал, что вы умеете так ругаться, — сказал Токмаков, когда они остались одни.
— По-моему, вы давно имели случай в этом убедиться. Еще когда вас жажда мучила.
— Но тогда от вас попало просто прохожему…
— К тому же не слишком скромному и вежливому…
— Вот с начальством ссориться — дело иное. Сам не всегда умею.
Токмаков подождал, пока Маша закончит свои дела. Возбужденная и веселая, она без устали носилась из конца в конец лесопитомника.
Потом они сидели на берегу пруда, у мостков, и ждали катера с правого берега.
Слева тянутся отмели, поросшие камышом. Неподалеку в пруд втекает ручей. Мельчайшие частицы руды перекрасили воду в морковный цвет.
Необычайный цвет воды, очевидно, и вызывал птичье беспокойство — утки над камышами суетились и не находили себе пристанища.
Токмаков принялся напевать сперва еле слышно, а потом, осмелев, вполголоса.
— А песни вы поете все прощальные, — заметила Маша, когда он умолк. — «Прощай, любимый город», «Мы простимся с тобой у порога», «Платком махнула у ворот…».
— Что же делать? — пожал плечами Токмаков. — Птицы перелетные!
И он показал рукой на стаю уток, взлетевших над камышами.
Катер все не показывался.
— Что-то там, в Европе, застрял этот катер, — сказала Маша. — В «Пионерской правде» такая загадка была напечатана: «В каком городе дети ходят пешком в школу из Европы в Азию?» Это когда у нас на правом берегу еще не было школы и мы ходили по дамбе через Урал на Тринадцатый поселок. Мы ведь с вами европейцы. А кто тут, на левом берегу, живет — азиаты.
Катер все не шел и не шел, и каждый из них втайне был доволен тем, что катер запаздывает и можно сидеть на этом самом камне вдвоем, вот так, рука в руке, ничего не говоря вслух, не двигаясь, почти не шевелясь.


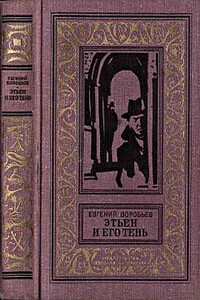


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)

