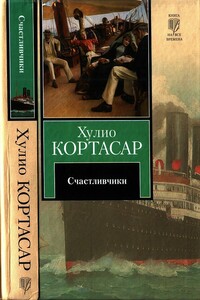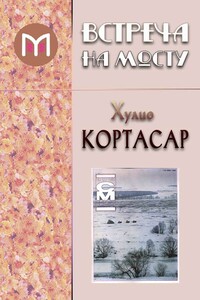— Оставьте меня, — крикнул он срывающимся голосом. — Вы… вы, все вы одинаковые.
— Мы? — спросил Рауль с легкой усмешкой.
— Да, вы. И Альфиери такой же, и все вы одинаковые.
Рауль продолжал улыбаться. Он пожал плечами и сделал шаг к двери.
— Ты слишком разнервничался, малыш. Что плохого, если один приятель приласкает другого? Какая разница — пожать руку или погладить по голове?
— Разница… Вы сами знаете, что разница есть.
— Нет, Фелипе, ты мне не доверяешь, раз тебе кажется странным, что я хочу стать твоим другом. Не доверяешь и лжешь. И ведешь себя, как баба, если хочешь знать правду.
— А теперь вы ко мне цепляетесь, — сказал Фелипе, осторожно приближаясь к Раулю. — Я вам лгу?
— Да. Мне даже стало жаль тебя, ты не умеешь лгать, это познается со временем, а ты еще не научился. Я тоже ходил вниз и разузнал у одного липида. Почему ты солгал мне, что оставался с молодым матросом?
Фелипе махнул рукой, словно желая показать, что это не имеет никакого значения.
— Я могу простить тебе многие обиды, — сказал Рауль тихим голосом. — Я могу понять, что ты меня не любишь, или что тебе кажется неприемлемой мысль о нашей дружбе, или что ты боишься, как бы другие не истолковали ее неверно… Но только не лги мне, Фелипе, даже из-за такой малости, как эта.
— Но ведь не было ничего плохого, — сказал Фелипе. Голос Рауля невольно привлекал его, как и глаза, устремленные на него и словно ожидавшие чего-то другого. — Просто я разозлился на вас за то, что вы не взяли меня с собой, и хотел… В общем, пошел на свой страх и риск, и, что там было, это мое дело. Поэтому я и не сказал вам правду.
Он резко повернулся к Раулю спиной и подошел к иллюминатору. Рука с трубкой безвольно повисла. Другой рукой он провел по волосам, ссутулился. На миг ему показалось, что Рауль начнет упрекать его в чем-то, он не знал, в чем именно, например в том, что он хотел пофлиртовать с Паулой, или в чем-нибудь еще в этом же роде. Он не решался смотреть на Рауля, его глаза словно причиняли боль, вызывали желание плакать, кинуться ничком на постель и плакать — чувствуя себя маленьким и совершенно беззащитным перед этим человеком с пронзительным взглядом. Спиной он чувствовал, что Рауль медленно приближается к нему, чувствовал, что вот-вот руки Рауля с силой обхватят его, и тоска сменялась страхом, вслед за которым возникало какое-то смутное желание подождать, испытать это объятие, когда Рауль откажется от своего высокомерия и станет его умолять, смотреть на него жалкими собачьими глазами, поверженный им, поверженный, несмотря на объятие. Внезапно он осознал, что они поменялись ролями, что теперь он может диктовать условия. Он резко повернулся, увидел протянутые к нему руки Рауля и расхохотался ему в лицо, истерично, мешая смех со слезами, хрипло и визгливо рыдая с искаженным издевательской гримасой лицом.
Рауль провел пальцами по щекам Фелипе и снова подождал, не ударит ли тот его. Он увидел занесенный кулак и замер в ожидании. Фелипе закрыл лицо руками, съежился и отскочил в сторону. В том, как он кинулся к двери, отворил ее и остановился на пороге, было что-то роковое. Рауль, не глядя, прошел мимо. Дверь, как выстрел, хлопнула за его спиной.
G
Быть может, необходим отдых, быть может, в какой-то миг голубой гитарист опустит руку и чувственный рот замолкнет и сожмется, станет пустым, как жутко сжимается пустая перчатка, брошенная на кровать. И в этот час равнодушия и усталости (а усталость — это эвфемизм поражения, и сон — это маска пустоты, прикрывающая каждую пору жизни) образ чуть антропоморфический, презрительно воссозданный Пикассо на картине, где изображен Аполлинер, как никогда представляет комедию в ее критической точке, когда все застывает перед тем, как взорваться в едином аккорде, который снимет невыносимое напряжение. Но мы думаем об определенных названиях расположенных перед нами предметов: гитара, музыкант, корабль, идущий к югу, женщины и мужчины, которые мельтешат, как белые мыши в клетке. Какая неожиданная изнанка интриги, может родиться из последнего подозрения, которое превосходит то, что случается в жизни, и то, чего не случается, то, что находится в этой точке, где, возможно, достигнут союз взгляда и химеры, где фабула на кусочки раздирает шкуру агнца, где третья рука, едва различимая Персио в миг звездного даяния, сжимает на свой страх и риск гитару, лишенную корпуса и струн, и выводит в твердом, как мрамор, пространстве музыку для иного слуха. Нелегко понять антигитару, как нелегко понять антиматерию, но антиматерия — это уже предмет, о котором пишут в газетах и делают сообщения на конгрессах, антиуран, антикремний сверкают в ночи, звездная третья рука вызывающе предлагает себя, чтобы оторвать наблюдателя от созерцания. Нелегко представить себе античтение, антисуществование какого-нибудь антимуравъя; третья рука дает пощечины очкам и классификациям, срывает книги с полок, раскрывает смысл зеркальных отражений, их симметричное и извращенное откровение. Этот анти-«я» и этот анти-«ты» находятся здесь, и что тогда есть мы и наше удовлетворительное существование, где беспокойство не выходит за пределы жалкой немецкой или французской метафизики, и теперь, когда на кожу, покрытую волосами, ложится тень антизвезды, теперь, когда в любовном объятии мы чувствуем порыв антилюбви, и не потому, что космический палиндром обязательно будет отрицанием (почему должна быть отрицанием антивселенная?), а, напротив, истиной, которую указывает третья рука, истиной, которая ожидает рождения человека, чтобы обрести радость!