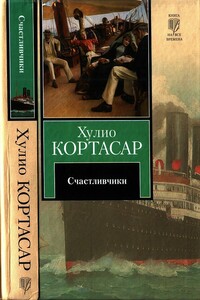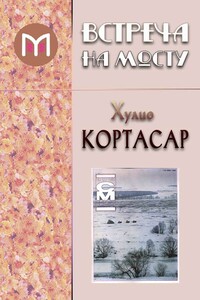Только войдя в воду, Рауль посмотрел на Паулу и Фелипе. Так, значит, трубка оказалась превосходной, а табак… Но Фелипе солгал ему насчет похода в кузню Плутона. Нет, эта ложь его не задевала, Фелипе почти благоговел перед ним. Другому он не постеснялся бы сказать правду, в конце концов, ему это ничего не стоило. Но ему Фелипе лгал потому, что невольно чувствовал сближающую их силу (которая только возрастает, чем больше натягивают тетиву, как у хорошего лука), он лгал ему и, сам того не ведая, своей ложью как бы вознаграждал его.
Приподнявшись, Фелипе с наслаждением потянулся: голова и торс его четко вырисовывались на фоне темно-голубого неба. Рауль прислонился к брезенту и словно ослеп: он уже не видел ни Паулы, ни Лопеса, а лишь слышал свои собственные мысли, словно произнесенные в полный голос где-то в глубине, как под сводами; эхом отдавался крик его мыслей, рождавшихся вместе со словами Кришнадасы, столь неуместными в бассейне, в совсем иное время, и в совсем ином теле, — и все же они будто по праву принадлежали ему, да ему действительно принадлежали все слова о любви: и его собственные, и Кришнадасы, слова из буколик и слова человека, привязанного к ложу из цветов, где его медленно и сладостно пытали. «Любимый, у меня только одно желание, — услышал он поющий голос. — Я хочу, как колокольчики, обвивать твои ноги, чтобы всюду следовать за тобой, всегда быть с тобой… Если я не привяжу себя к твоим ногам, к чему тогда петь песнь о любви? Ты всегда перед моим взором, и я всюду вижу тебя. Когда я вижу твою красоту, я готов любить весь мир. Кришнадаса говорит: „Смотри, смотри“». А небо, окружавшее статую, казалось черным.
XXXIV
— Бедный парень, — говорила донья Росита. — Посмотрите на него, ходит один как неприкаянный, ни с кем не знается. По-моему, это стыд и позор, я все время говорю мужу, правительство должно принять какие-то меры. Какая же это справедливость: если ты шофер, значит, торчи весь день где-нибудь в углу?
— Он, кажется, симпатичный, бедняжка, — сказала Нелли. — А какой большой, ты заметил, Атилио? Как медведь!
— Ну уж медведь, — сказал Атилио. — Я же помогаю ему поднимать кресло со стариком, так думаешь, он намного сильнее меня? Толстый, это да, одно сало. Настоящий увалень, а вот, к примеру, схватись он с Лоссом, тот уложил бы его в два счета. А как ты думаешь, че, победит Русито в схватке с Эстефано?
— Русито очень хороший, — сказала Нелли. — Дай бог, чтоб он выиграл.
— В последний раз он победил хитростью, по-моему, punch [94] у него уже не тот, но ногами он работает здорово… Похож на Эррола Флинна в фильме про боксеров, ты видела…
— Да, мы смотрели его в Боэдо. Ах, Атилио, мне фильмы про боксеров совсем не правятся: бьются в кровь и вообще, кроме драки, ничего не показывают. Никаких чувств, что за интерес.
— Ха, чувства, — сказал Пушок. — Вам, женщинам, подавай только прилизанного красавчика, который без конца целуется, а больше вы и знать ничего не хотите. А в жизни все по-другому, уж я тебе говорю. Жизнь, ее понимать надо.
— Ты это говоришь только потому, что тебе нравятся фильмы про бандитов, но стоит показаться на экране Эстер Уильямс, как у тебя слюнки текут, думаешь, я не замечаю.
Пушок скромно улыбнулся и сказал, что вообще-то Эстер Уильямс настоящая конфетка. Однако донья Росита, пробудившись от дремоты, навеянной завтраком и разговором, решительно заявила, что нынешних актрис ни в коей мере нельзя сравнить с теми, что были в ее время.
— Это точно, — сказала донья Пепа. — Вспомните хотя бы Норму Тэлмейдж и Лилиан Гиш, вот это были женщины! А Марлен Дитрих; как говорится, скромницей ее не назовешь, но какое чувство! Помнишь, в том цветном фильме, где священник спрятался у мавров, а она ночью выходила на террасу в прозрачных белых одеждах… По-моему, она плохо кончила, такая уж судьба…
— Ах да, помню, — сказала донья Росита. — Там ее унес ветер, да, какое чувство, как же, как же.
— Да нет, это не тот фильм, — сказала донья Пепа. — Это другой фильм, в нем еще священника звали Пепе, не знаю, как дальше. Там все пески да пески, а какие краски.