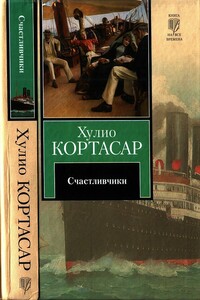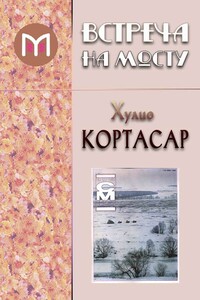— Я все скажу папе. Ты вообразил, что тебе восемь лет?
Фелипе накинул халат и вошел в каюту. Он медленно стал набивать трубку, поглядывая на Бебу, присевшую на край кровати.
— Похоже, тебе уже лучше, — сказала Беба недовольным топом.
— А ничего и не было. Просто чуть перегрелся на солнце.
— От солнца не пахнет.
— Заткнись, не цепляйся ко мне.
Он закашлялся после первой же затяжки. Беба с любопытством смотрела на него.
— Думает, что умеет курить, как взрослый мужчина, — сказала она. — Кто подарил тебе трубку?
— Сама знаешь, дура.
— Муж этой рыжей, да? Тебе везет. Сначала снюхался с ней самой, а потом ее муж дарит тебе трубку.
— Заткнись, дура.
Беба продолжала разглядывать его, по-видимому находя, что Фелипе делает успехи в умении обращаться с трубкой.
— Это очень любопытно, — сказала она. — Мама вчера вечером метала громы и молнии против Паулы. Да-да, не гляди на меня так. И знаешь, что она сказала. Поклянись, что не рассердишься.
— Не буду я ни в чем клясться.
— Тогда я тебе ничего не скажу. А она сказала… «Эта женщина сама пристает к нашему малышу». Я стала защищать тебя, но они, как всегда, со мной не посчитались. Вот увидишь, какая каша заварится.
Фелипе весь покраснел от злости, поперхнулся дымом и отбросил трубку. Сестра со смиренным видом поглаживала край матраца.
— Старуха совсем обалдела, — сказал наконец Фелипе. — Да за кого она меня принимает? Я сыт по горло ее «малышом», вот пошлю вас всех… — Беба зажала уши. — И тебя первую, тихоня несчастная, наверняка это ты наябедничала, что я… Да что же это такое, выходит, теперь и с женщинами поговорить нельзя! А кто вас сюда привел, скажи? Кто заплатил за путешествие? Уж помалкивай, у меня прямо руки чешутся влепить тебе пару горячих.
— Я бы на твоем месте, — сказала Беба, — поосторожней флиртовала с Паулой. Мама сказала…
Уже в дверях она обернулась. Фелипе оставался там, где был, засунув руки в карманы халата, с видом провинившегося школяра, скрывающего свой страх.
— Представь себе, если Паула вдруг узнает, что мы зовем тебя «малышом», — сказала Беба, закрывая за собой дверь.
— Стричь волосы — это метафизическое занятие, — заметил Медрано. — Интересно, психоаналитики и социологи разработали теорию о парикмахере и клиентах? Это прежде всего ритуал, которому мы охотно подчиняемся на протяжении всей нашей жизни.
— В детстве парикмахерская производила на меня такое же впечатление, как церковь, — сказал Лопес. — Было что-то таинственное в том, что парикмахер приносил специальный стульчик, и потом эта рука, сжимающая твою голову, точно кокосовый орех, и поворачивающая ее во все стороны… Да, это настоящий ритуал, вы правы.
Они стояли, облокотившись о перила борта, разглядывая далекий горизонт.
— Парикмахерская и в самом деле чем-то походит на храм, — сказал Медрано. — Во-первых, разделение полов придает ей особое значение. Парикмахерская подобна бильярдным, или общественным туалетам, или совокупности тычинок, она возвращает нам своеобразную и необъяснимую раскованность. Мы попадаем в обстановку, совершенно отличную от уличной, домашней или обстановки общественного транспорта. Мы уже не остаемся после обеда одни, и нет уже кафе с отдельными залами для мужчин, но кое-какие свои оплоты мы еще сохраняем.
— И вдобавок запах, который узнаешь в любом уголке земли.
— Должно быть, оплоты эти существуют для того, чтобы мужчина, не скрывающий своей мужественности, мог снизойти до эротизма, который сам, и, возможно, без оснований, считает свойственным лишь женщинам и который он с негодованием отверг бы в любой иной обстановке. Массажи, компрессы, духи, модельные прически, зеркала, тальк… Перечислите все это, не упомянув о парикмахерской, и вам на ум сразу придет женщина.
— Конечно, — сказал Лопес, — это лишний раз подтверждает, что мы, мужчины, слава богу, ни на миг не расстаемся с женщинами, даже когда остаемся одни. Пойдемте посмотрим на наших тритонов и нереид, атакующих бассейн. А может, че, мы тоже окунемся.
— Ступайте один, дружище, я пока пожарюсь на солнышке.
Атилио с невестой, картинно прыгнув в воду, во всеуслышанье объявили, что вода ужасно холодная. Расстроенный Хорхе отыскал Медрано и пожаловался, что мать запретила ему купаться.