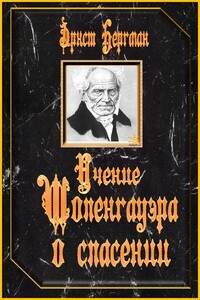И вот задача этики будет состоять в том, чтобы представить в общих чертах ту форму человеческой жизни, к которой предрасположена его природа. Конечно, она не может представить содержание жизни или идеал отдельного лица in concreto; это дело творческой натуры и в известном смысле искусства; наука ограничивается тем, что описывает те формы, в пределах которых только и возможна человечески совершенная жизнь, исполняющая человеческую волю и доставляющая ей продолжительное удовлетворение. Это происходит в учении о добродетелях и обязанностях, которые, впрочем, в своем конкретном развитии всегда определяются народом и временем. Этика, согласно с этим, имеет к жизни подобное же отношение, как грамматика к языку, эстетика к искусству, диэтетика к телесной жизни: она обозначает формы возможного и позволительного, допускающего опять-таки самое разнообразное выполнение. Совершенное, подобно тому как и прекрасное, есть не одноформенный тип, а бесконечное разнообразие индивидуального образования. Что же касается нравственно дурного или злого, то этика будет построять его подобно тому, как медицинская диэтетика построяет физические повреждения, слабости, уродливости; подобно тому, как здесь эти случаи рассматриваются как следствия внешних препятствий и повреждений, мешавших тенденции естественного предрасположения к нормальному развитию, так и этика будет сводить дурное и злое не на подлинную волю самого существа, которую надо скорее предполагать направленной к нормальному развитию и деятельности в смысле человеческого совершенства, а на неблагоприятные условия развития, под влиянием которых естественное предрасположение пострадало и претерпело извращения. Что злое противно подлинной воле существа, что даже в злом человеке в глубине его сущности кроется влечение к воле Бога, это, так добавит этика, обнаруживается в том, что злое всегда сопровождается внутренним беспокойством; это реакция основной воли против отдельных моментальных возбуждений или против гипертрофически развитых сторон жизни влечений, как бы насилующих ее. Этим предначертывается диэтетический образ действия: устранить неблагоприятные обстоятельства, приводящие к извращению, и путем ограничения и поддержки помогать истинной воле в противодействии уродливостям.
Обращаемся к противоположности телеологической и формалистической философий морали. Первая обычна в греческой философии; все согласны в том, что различие достоинств нравственных образов поведения покоится, в конце концов, на различии тех действий, которые склонны производить различные образы поведения; все строят этику с точки зрения высшего блага, определяемого всеми как счастье, эвдемония. К философии морали, определенной христианством, более приближается другая форма: благо и зло определяются не отношением поступков к цели, а отношением их к абсолютно действительному закону Бога, как ему поучает церковь. Новая философия в свою первую эпоху снова возвращается к телеологическому направлению; мы находим его у Спинозы и Вольфа, у Шефтсбери и Юма. Сильная реакция против «эвдемонистической» морали в пользу формалистической начинается с Канта; она продолжает действовать в немецкой философии еще и по сие время.
В самом деле, формалистическая философия морали имеет в себе на первый взгляд нечто в высшей степени очевидное: поступки хороши или дурны не по своим последствиям, а они таковы сами по себе; ложь, обман дурны сами по себе, безо всякого отношения к их последствиям; таким же образом честность и самообладание хороши сами по себе. Или, говоря вместе с Кантом: хорошая воля есть то единственное, что само по себе хорошо; она имеет абсолютное достоинство, совершенно независимо от того, что она совершает и производит. Это утверждение имеет свой хороший смысл. Тем не менее остановиться на нем невозможно. Говорят: поступать справедливо хорошо, поступать же несправедливо дурно, все равно, какие бы последствия ни имел данный поступок в действительности; дело решается настроением, а не последствиями, которые всегда проблематичны. Конечно, скажем мы, о таком-то отдельном поступке решает только то настроение, из которого он произошел. Но была ли бы речь о справедливом и несправедливом также и в том случае, если бы поступки одного человека вообще не имели и не могли иметь никаких действий на состояние других? Очевидно, нет. Неужели же, несмотря на это, достоинство поступка должно быть вполне и во всех отношениях независимо от последствий? Неужели мы стали бы называть несправедливый поступок дурным и негодным даже и в том случае, если бы он всякий раз и по своей природе действовал не во вред, а в пользу всех заинтересованных в нем? Если бы лжи было свойственно служить в пользу обманутому и вызывать доверие к лжецу, то неужели люди остались бы при том взгляде, что лгать дурно? Неужели же это суждение было бы подобно какому-нибудь аксиоматическому положению или суждению восприятия, для которого вообще не может быть указано основание? Или, напротив, возможно указать основание того, почему лучше поступать умеренно и обдуманно, справедливо и правдиво, миролюбиво и благосклонно, чем поступать обратно?