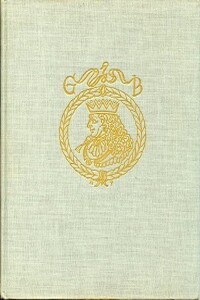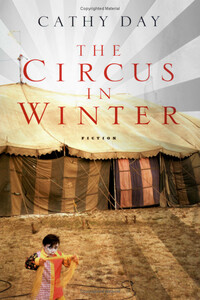Тут Чапаев и Плясунков повели нас в лобовую атаку. Катились мы к переправе не чуя ног и одолели ее. Но отдыха нам не было: Чапаев приказал продолжать движение на Николаев.
Так прошел день, а к вечеру мы стали выдыхаться, утомление брало свое.
В час пополуночи застряли мы около деревни Пузанихи, прикрывались только ночной темнотой. А у Кутякова в это время стряслось такое, что могло всем нам жизни стоить.
Слышит командир батальона, Бубенец, скрип подвод — не одной, не двух, чует: подвод этих — сила. В полной темноте подходит к первой, спрашивает возницу:
— Кого везешь?
— Чиха, — отвечает возница-татарин.
Еще вопрос, еще другой, и выясняется: на подводе чешский полковник.
Бубенец, быстрый в решениях, как щелкнет каблуками, аж в темноте слышна белочеху такая офицерская вежливость. И недолго думая громко говорит:
— Имею честь, пан полковник, представиться: капитан Добровольческой армии Арзамасов. Необходимо доложить моему командованию, что вы на подходе к Николаеву. Я немедленно вернусь с разрешением и буду сопровождать вас, чтобы наши части, подошедшие из Балакова, не причинили вам, по недоразумению, ущерба.
Вот что-то вроде этого отрапортовал наш Бубенец полковнику белочехов. Тот обрадовался встрече с Добровольческой армией и разрешил Бубенцу удалиться, а сам, верно, соснул. Тем временем подходили все новые и новые подводы, белочехи спали, возницы — мобилизованные крестьяне — одни дремали, другие переругивались. А Кутяков, хоть и сильно контуженный в дневном бою, глаз не смыкал и, узнав об опасной встрече, сейчас же приказал подвести вплотную к обозу два батальона и в упор стрелять по белочехам.
Обалдевшие солдаты и офицеры в темноте избивали друг друга, а мы шли ускоренным маршем в Николаев и вышибли врага из родного города.
На самом деле Добровольческая армия при известии о взятии Николаева откатилась от Балакова. Всюду мы заняли свои прежние позиции.
Но что творилось в Николаеве! На улицах валялись зарубленные, исколотые — мальчики с разбитыми черепами, девчонки с изуродованными лицами; не пожалел враг и седин. Слышал я, как стонали наши ребята, обхватив своих мертвых дорогих людей.
Под утро на одной из улочек Николаева я наткнулся на нашего красноармейца. Он стоял, скорчившись над трупом. Подошел я к нему совсем близко, и странно мне было видеть, как согнулся солдат и не мог разогнуться, а лежал перед ним всего-навсего белочешский офицер — враг.
У убитого аккуратно натянута на голову чешская шапочка, из-под нее выбиваются вьющиеся светлые волосы.
Я заглянул в лицо нашего солдата и с трудом узнал Петьку-Чеха. Лицо у него отекло; покрытое темным слоем пыли, измазанное землей и потом, оно показалось мне совсем не молодым. Глаза запали. Петька будто окоченел, хотя была душная августовская ночь. И скрючило его, видно, от непереносимой боли.
— Что ты, Петька? Плечо схватило?
Он ничего не ответил, будто меня и не слышал, и глаз не мог отвести от того офицера.
— Уйдем, — говорю, — Петя. Отведу я тебя к нашей Дуне.
Может, имя ее пробило Петькину душу. Он поднял ко мне свое серое лицо и, будто под огнем белочешской тяжелой батареи, прохрипел:
— Я убил его, уже когда город был наш, убил!
Петька вдруг повалился на меня, повис на моих руках, потом очнулся и совсем шепотом сказал:
— Он целился в меня, а я убил младшего моего родного брата. Ладьо! — позвал он убитого. — Ладьо!!!
Я попытался увести Петьку, он отстранил меня и тихо так, медленно объясняет:
— Похороню. Брат ведь! — И добавил: — А переправу взяли, — и, уткнувшись в мое плечо, повторял все одно слово, но я плохо слышал и мешалось у меня, самого валившегося с ног: не то слово «переправа», не то «мама»…
Данила помолчал, а потом сказал:
— А ты думаешь, переправа — это легко!..