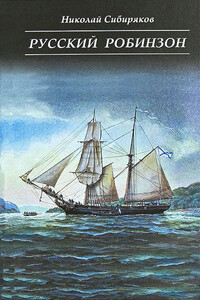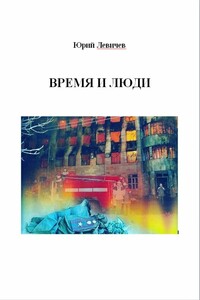Но это капля в море. Перевязать всех нет никакой возможности. Врачи падают от усталости.
С утра дали знать по телефону в Скальмерже о моем приезде. Меня сразу охватила позиционная атмосфера. Трещат пулемёты.
Хлопают орудия. Пачками рассыпаются ружейные залпы. Позиция совсем близко. В Грушове заехали за мной солдаты головного эшелона головного парка. Второй день они не у дел: снаряды все вышли. В местном парке [12] в Стопнице снарядов нет. Послали эшелон в Мехов — и там нет. Говорят, завтра из Пинчова привезут. Не хватает ни снарядов, ни патронов. С батарей все время присылают с запросом:
— Можно ли открыть непрерывный огонь?
А снарядов нет. Два дня тому назад за два часа расхватали весь парк. И солдаты злобствуют:
— Не на кулачки же драться?!
В Скальмерже среди офицеров настроение не лучше. Все повторяют:
— Есть и люди, и мужество, а снарядов — нет.
С негодованием рассказывают такой случай. Вчера наши эшелоны метались по всем направлениям в поисках ружейных патронов. По дороге встретился им местный парк, переезжавший из Стопницы в Мехов. Стали просить у них снарядов. Ответ: «Не дадим!»
— Да выручите, — просят солдаты. — Совсем не хватает, придётся из-за этого отступать.
А им преспокойно: «Никак нельзя. Не дадим. В дороге мы — не парки, а транспорты».
Это напоминает классический ответ лазарета одного из госпиталей под Шахэ. Шли толпы раненых. Навстречу им лазарет. Просят: «Возьмите нас, кровью истекаем». А им в ответ: «Невозможно. В пути мы — не госпиталь, а транспорт. Возим шатры, а не больных».
Проснулся от непривычного грохота. Казалось, кто-то огромной дубиной колотит по железному барабану, и от этого бешеного грохота содрогаются окна, дома, телефонные столбы и все предметы. Это бухали тяжёлые австрийские пушки вперемежку с беглым огнём полевых орудий. В комнате стоял шум людских голосов. Ругались, кричали и требовали снарядов. Некоторые солдаты чужих дивизий кланялись в пояс и жалобно просили:
— Много их; без конца. Бьют из тяжёлых орудий по окопам. А у нас всего одна цель. Не выдержим, отступим, если артиллерия не поддержит. Христа ради, снарядов, хоть малость...
Потом в помещение вихрем врывается офицер в романовском полушубке:
— Здесь парк дивизии? Где командир бригады Базунов?
— Зачем вам? Он в Люблине.
— У вас много снарядов. Мне начальник нашей дивизии поручил узнать, почему не отпускаете? Ему объясняют положение вещей.
Он ругается, неистовствует, угрожает судом и всякими карами.
Прапорщики Растаковский и Болконский, отправленные за снарядами, не давали о себе никаких сведений; и на запросы батарейных командиров, когда ожидаются снаряды, приходилось отвечать чрезвычайно уклончиво, что приводило их, конечно, в негодование. В то же время вследствие непрерывного движения создалась крайне тяжёлая обстановка для парков. Люди не обедали по два дня. Лошади также оставались без корма, нечищенные и почти не разамуничивались ни днём, ни ночью.
Полупарк, находившийся в Климантове, подвергся жестокому обстрелу.
После обеда прибыл прапорщик Растаковский с эшелоном из Мехова. В течение нескольких минут все привезённые гранаты и винтовочные патроны были разобраны. Неприятельские орудия не затихают ни на минуту. Офицеры режутся в карты. Время от времени из полков присылают за патронами, и мне приходится давать пространные пояснения. Все роли давно перепутались: доктора дают стратегические советы, отпускают снаряды и патроны, если есть, а офицеры вмешиваются в медицинское дело, прописывают лекарства и дают врачебные наставления. Все это считается в порядке вещей, и не только нами, но и солдатами принимается как нечто совершенно законное.
Игра в карты продолжается до рассвета, и всю ночь не смолкает австрийская канонада. Из-за тёмных гор, сотрясая морозный воздух, удар за ударом доносятся пушечные раскаты. Бьют из тяжёлых орудий и мортир. Полевые пушки молчат. Через каждые полчаса стучатся солдаты за патронами. Но патронов нет. Солдаты со злобой спрашивают:
— Неужто с голыми кулаками драться?!
И глухо ворчат о каком-то генерале, продавшемся немцам и задерживающем доставку снарядов.