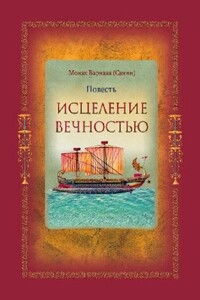— Да, зайди.
Она быстро пошла по лестнице, быстро отперла ключом дверь и вошла, но не остановилась в прихожей, а прошла одетая прямо в комнату. И тут только оглянулась на меня:
— Раздевайся.
Я снял пальто и шапку, вошёл в комнату. Она всё ещё стояла в шубе, но когда я подошёл, сбросила её, просто опустила руки, и шуба соскользнула на пол. Я наклонился, чтобы поднять её, но она остановила меня:
— Не нужно.
Я смотрел на неё с недоумением, всё ещё не понимая, что должно произойти.
— Что с тобой? Ты так переживаешь?
Она молча кусала губы.
— Из-за него? Ты очень любишь его?
Она подвинулась ко мне вплотную, и я увидел, как бьётся жилка у неё на шее.
— Я его ненавижу…
Последний слог этого чётко растянутого слова «не-на-ви-жу» она произнесла, уже касаясь губами моих губ, и мы оба, как подкошенные, опустились на пол, на брошенную на паркет шубу.
Лицо её после первого и единственного большого поцелуя замерло, глаза были закрыты, и губы сжались, будто она напряжённо прислушивалась к самой себе, к тому, что происходит внутри её и не имеет ко мне никакого отношения. И только под самый конец лицо исказилось судорогой, и на глазах выступили слёзы, совсем немного.
Она постаралась улыбнуться.
— Теперь мне хорошо, — сказала она шёпотом.
Я хотел поцеловать её, но она отстранила меня:
— Не нужно. Уходи.
Я встал и оделся, а она осталась лежать, прикрывшись полой шубы.
— До свиданья.
— Уходи, — повторила она.
В прихожей я ещё на минуту остановился, но из комнаты не было слышно ни звука.
Я осторожно захлопнул за собой дверь".
Конечно, я не счёл себя вправе расспрашивать Димку о происхождении этого эпизода. В конце концов, писатель имеет право многое домысливать к тому, что пережил. Так и не знаю, было такое в его жизни или примыслилось.
Удивительно бежит время. И не потому, что безвозвратно, а потому, что по-разному. В молодости дни бегут быстро, время же ход свой как будто не торопит. Поддразнивая мнимой медлительностью, оно заставляет даже поторапливать себя, и, не разобравшись в обманчивой сути, стремимся мы поскорее миновать ту часть жизни, о которой редкий человек не вспоминает потом как о лучшей. Но это потом вспоминает как лучшую, когда её уже не вернёшь, а в молодости думает, что дальше ещё лучше будет, и торопится, спешит… К старости же, наоборот, дни тянутся, а листочки с календаря срываются, как осенние листья на ветру, неумолимо обнажая чёрные ветви.
Мы, однако, к периоду осыпающемуся ещё не приблизились, хотя дразнящий уже миновали. Время несло нас сильным, неотвратимым потоком, как большая река, по которой плывёшь от поворота к повороту, ожидая за каждым нового горизонта. В этом ожидании, в заворожённом движении вперёд, когда день сегодняшний не более чем подготовка к завтрашнему, всё ещё что-то обещающему, не успеваешь, да и не стремишься особенно оглянуться, оглядеться и прислушаться к тем ударам колокола, который, как считал Хемингуэй, чьи бородатые изображения висели в те годы в каждом втором интеллигентском обиталище, звонит, предостерегая каждого из людей.
Впрочем, кое-что слышали, конечно. Другое дело, на свой счёт принимать не хотелось, а слышать слышали. Да и как было не услышать! Немало произошло за очередные пробежавшие годы.
Умерла Вера. На Севере, так и не вернувшись.
Было от неё за это время всего два письма. В одном, к Лиде, она поздравила её и Сергея с законным браком, «которым я очень довольна, потому что наш был глупейшей ошибкой, и я искренне рада, что соединились люди по-настоящему нужные друг другу. Теперь я спокойна и за Андрея… Ты дашь ему больше, чем могла бы сделать я!», — писала Вера убеждённо, а ниже признавалась, что переоценила себя. «Ясно, что стать крупной величиной в литературе мне не дано, а числиться среди тех, о которых пишут „и др.“, унизительно и не по мне. Я окончательно сожгла корабли, высадилась на берег и обрела „тихую пристань“. Мой муж прекрасный человек. Он не интеллектуал, но именно этим, своей мужественной, честной простотой, меня и покорил. Я хотела бы принести ему счастье. К сожалению, он не мыслит счастья без ребёнка, а я, понятно, не решаюсь, ведь я из кукушечьего племени. Но, может быть, придётся уступить…»